Максим Патрушев: Через 20 лет электронная среда будет исполнять наши желания, нам не понадобятся посредники в виде клавиатуры или мыши
Максим Патрушев: Через 20 лет электронная среда будет исполнять наши желания, нам не понадобятся посредники в виде клавиатуры или мыши
https://otr-online.ru/programmy/gamburgskii-schet/maksim-patrushev-17631.html 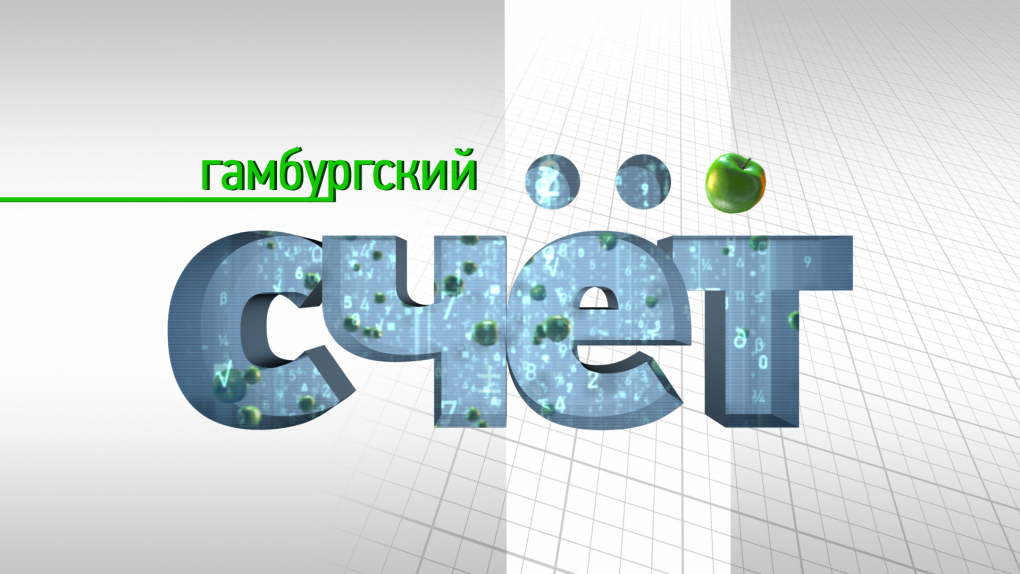
Ольга
Орлова: В 2016 году в России стартуют дорожные карты Национальной технологической
инициативы. Одна из них – Нейронет - посвящена развитию технологий. О том, что
это такое, мы решили спросить директора Химико-биологического института
Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Максима Патрушева.
Здравствуйте,
Максим. Спасибо, что пришли к нам в студию.
Максим
Патрушев: Здравствуйте, Ольга.
Максим
Патрушев родился в 1979 году в Ташкенте. В 2004 году окончил Пущинский
государственный университет. В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию в
Институте биофизики клетки Российской академии наук. С 2008 года переехал в
Калининград и работает в Балтийском федеральном университете. С 2014 года
возглавил Химико-биологический институт, автор более 50 научных публикаций. Член
экспертного совета "Науки о жизни" министерства образования и науки России.
Координатор научно-технологического совета инициативы
"Нейротехнологии". Член рабочей группы министерства науки и
образования по приоритету "Нейротехнологии".
О.О.:
Около года назад появилась большая государственная программа "Национальная
технологическая инициатива". И в рамках неё правительство утвердило
несколько дорожных карт. И вот Нейронет. И когда говорят "Нейронет",
подразумевают нейротехнологии. Расскажите, что такое нейротехнологии.
М.П.:
Сегодня у нас жизнь уже достаточно высокотехнологичная. Мы живём в мощной
информационной среде. Все мы знаем, что основное общение у нас сегодня
происходит не с глазу на глаз, а через компьютер, через телефон и так далее. И
было сделано предположение, точнее, даже не предположение, а прогноз, что через
условно 20 лет (конечно, плюс-минус) мы будем жить в так называемом сетевом
обществе, где все взаимодействия будут происходить в первую очередь через
какие-то электронные устройства. Сегодня у нас есть Интернет, а будет, как мы
предполагаем, Нейронет.
В чём принципиальное отличие? Принципиальное отличие в том, что нам не
понадобятся посредники в виде, если говорить простым языком, клавиатуры, мыши,
то есть мы будем непосредственно манипулировать нашими мыслями. То есть просто
подумав. Электронная среда будет исполнять наши желания. Простые примеры: уже сегодня у нас есть такие
штуки, как распознавание речи, распознавание текста, всё это потихонечку
развивается. И в итоге мы сегодня уже понимаем, что в чтении, если с позволения
сказать, мыслей нет ничего фантастического. Сегодня, допустим, в Московском
государственном университете уже успешно проводятся работы, когда при помощи
отведения таких сигналов от мозга дети могут играть в игры. То есть они не
используют ни клавиатуру, ни мышь. Они просто двигают что-то на компьютере
силой мысли. И, естественно, эта тенденция будет развиваться. Никуда мы от
этого не денемся. Вопрос только – кто будет первым? Будет ли Россия первой, мы
не знаем. Но мы, конечно, хотим.
О.О.:
Подождите, но разве сам такой сетевой принцип не подразумевает, что здесь никто
не будет первым, что либо мы в целом как цивилизация до этого дорастём, и
дорастём только в глобальном мире и в глобальной экономике… Можно ли стать
первым с точки зрения государства в таком большом качественном скачке?
М.П.: В
том аспекте, в котором вы говорите, наверное, нет. Но в экономическом плане, то
есть, естественно, всеми этими технологиями будут владеть какие-то компании,
которые будут извлекать прибыль из этого. И мы, конечно, хотим, чтобы это были
российские компании. Какие у нас шансы? Шансы у нас на самом деле есть, потому
что мы находимся примерно на одной стартовой линии со всеми остальными
странами, включая наших ведущих конкурентов.
О.О.:
А ведущие конкуренты – это…
М.П.: Всё
те же: Соединённые Штаты Америки, Япония, некоторые страны Европы.
О.О.:
И мы находимся с ними на одной стартовой линии?
М.П.:
Да. Сегодня старт у нас примерно один. То есть сегодня нет никаких крупных
компаний, которые бы обуславливали даже условные монополии в мире, типа
компании Apple
или компании Samsung на
рынке смартфонов. Есть мелкие фирмы и в Соединённых Штатах Америки, и у нас они
появляются, и они сегодня уже работают, сегодня что-то разрабатывают. И это,
конечно, приятно.
О.О.:
Если говорить о других применениях, о других направлениях развития
нейротехнологий, что это может быть?
М.П.:
Смотрите, мы здесь в первую очередь должны исходить не из термина
"применение", а мы исходим из термина "рынки", какие рынки
могут появляться, то есть что люди будут потреблять. В первую очередь по объёму
рынка – это развлечения. То есть это технологии виртуальной реальности,
которыми сегодня уже никого не удивишь. Но, тем не менее, они будут
развиваться. И мы говорим о том, что будет полное погружение в виртуальную реальность. Это всяческие
ассистенты. То есть сегодня вы, допустим, звоните за помощью условно в какой-то
call-центр,
если вам нужна помощь. То есть здесь людской труд заменят, скорее всего,
нейроморфные когнитивные системы.
Масса других применений в промышленности. Опять-таки,
автоматизированные системы управления есть уже сегодня. Но они будут всё
развиваться. И, опять-таки, действительно людской труд, такой труд, который
требует однообразных операций – он, конечно, будет потихонечку сводиться на
нет.
О.О.:
Как же так получается? То, что вы рассказываете, эта картина, как она может
быть воплощена исходя из того, что в России реальность сейчас направлена совсем
в другую сторону. То есть у нас производственные мощности, которые есть в любой
абсолютно области индустрии, о какой бы мы ни говорили, они устаревшие. И у нас
не то, что нет современных автоматизированных станков, которыми можно сократить
это количество людей, у нас на старых-то работать некому! В образовательной сфере
идёт очень мощная борьба с любыми проявлениями каких-то глобальных рынков.
Вообще речь идёт о том, чтобы количество английского сократить. Какие игры?!
Какая индустрия развлечений?! Как то, что вы описываете, вот это удивительное
фантастическое будущее, как оно может вырасти из того настоящего, в котором мы
сейчас находимся?
М.П.:
Первое – про производственные мощности. Да, вы совершенно правы. Но в мире
сегодня существует система распределения труда. У нас есть мировая фабрика так
называемая, то есть это Китай и иже с ними, то есть окружающие страны...
О.О.:
Юго-Восточный регион.
М.П.:
Юго-Восточная Азия, совершенно верно. И сегодня ни один крупный производитель
не ставит заводы такого рода, для производства вещей совсем массового
потребления, допустим, в Соединённых Штатах. Те же гиганты по производству
смартфонов, о которых мы говорили, они всё-таки выносят свои производства вовне.
Здесь мы говорим о том, что мы должны создавать так называемые "фаблесс-компании".
То есть это беспроизводственные компании. Это компании, которые накапливают
интеллектуальную собственность, занимаются разработками.
О.О.:
Вы хотите сказать, что интеллектуальные разработки находятся на территории
России, а производства вынесены?
М.П.:
Да, совершенно верно. То есть мы заказываем производство вовне. Естественно,
владеем всеми правами на эти технологии.
О.О.:
Как это, например, связано с тем курсом на импортозамещение и на производство
всего внутри России, которые сейчас декларируются?
М.П.:
Когда мы говорим об импортозамещении, мы говорим о рынках настоящего. То есть
это прежде всего продукты питания, это какие-то бытовые штуки, которые мы
потребляем всё время. А мы с вами говорим о рынках будущего. И здесь, конечно,
мы должны применять несколько иные подходы. Возможно, какое-то производство,
если оно критически важно, если это какая-то критическая технология, связанная
с безопасностью страны, конечно, его надо локализовывать здесь.
О.О.:
В основе почти всех технологий будущего лежит ПО, программное обеспечение. О
какой бы мы сфере ни говорили. Так вот разработчики говорят одно и то же: что
теперь не может быть отдельно каких-то технологий, связанных с оборонкой, с безопасностью,
а у вас есть новые технологии, у которых есть двойное применение. Вы можете
применять их в оборонной отрасли, а можете применять их в информационных или
медицинских системах.
Интеллектуальная
разработка, если она в России, носит двойной характер. Но совершенно непонятно,
как мы, опять-таки, в неё попадём. То есть мы сейчас никаких
высокотехнологичных станков не производим, не умеем и не собираемся
производить. Мы будем производить, опять-таки, что-то связанное с продуктами
или с обувью, что тоже, конечно, учитывая современные рынки, звучит как-то
странно.
И,
тем не менее, имея такое достаточно простое и примитивное производство в
настоящем, мы должны через 20 лет попасть в высокотехнологичное будущее, когда
интеллектуальная собственность находится на территории России, разработки
здесь. То есть это по дорожной карте предполагается?
М.П.:
Да, конечно. Мы вряд ли догоним ведущие страны по производству, допустим,
электронных компонентов каких-то, которые для Нейронета крайне необходимы. И,
естественно, мы будем их закупать. Наверное, до той поры… Если нам перекроют
поставки, тогда мы начнём производить у себя. Но с точки зрения рынка, если мы
говорим про нормальный рынок, без всяких политических игр, которые сегодня
происходят, с точки зрения рынка, экономики, это не имеет никакого смысла.
Поэтому ещё раз попытаюсь чётче сформулировать ответ на
ваш вопрос. Не обязательно что-то производить прямо у себя во дворе, чтобы быть
в чём-то лидером. Мы говорим об интеллектуальном лидерстве прежде всего.
О.О.:
Нет, я с вами абсолютно согласна. Но означает ли это, что разработчики
национальной технологической инициативы в целом и, в частности, дорожной карты
Нейронет – они всё-таки подразумевают, что речь идёт о каком-то, как вы сейчас
выразились, нормальном рынке, когда речь идёт не о политических коллапсах и
катаклизмах, а подразумевается, что всё-таки Россия будет нормально
развиваться, станет частью глобального мира и будет таким игроком…
М.П.:
Безусловно. Потому что мы ориентированы в первую очередь даже не столько на
российский рынок, сколько на мировой рынок. Все продукты и все рынки Нейронета…
В России рынка нет, нет такого рынка, как российский. Сегодня можно говорить
только о мировом рынке. Россия - часть мирового рынка. И никуда мы от этого не
денемся. И, естественно, мы предполагаем, что Россия будет развиваться без, как
вы сказали, политических катаклизмов, без всяких запретов и так далее, и так
далее.
О.О.:
Спасибо, вы вселяете в нас надежду. Очень не хотелось бы быть изолированными от
всего мира и от всех процессов, которые там происходят.
Я
вас слушаю и я прямо верю, что вы человек из будущего, потому что вы
разговариваете не так, как говорит директор исследовательского института, а
скорее как очень жёсткий управленец. Давайте теперь лучше поговорим о вашей
научной работе. У вас химико-биологический институт. Расскажите про ваши
исследования, самые интересные и актуальные, которые вы сейчас проводите.
М.П.: У
нас несколько базовых научных направлений. Повестка немножко разветвлена. Одно
из направлений – это как раз нейро. У нас большая группа занимается
исследованиями картирования мозга. Мы сегодня знаем, что есть мозг как такой
кусок жира. Жира там больше, чем всего остального, не считая воды. И мы
пытаемся понять, анализируя определённые участки мозга с использованием методов
молекулярной биологии, клеточной биологии, клеточной сигнализации. Эта работа
идёт в тренде с мировыми исследованиями мозга. В Америке существует частный
Институт Аллена, который тоже занимается картированием. Но они сосредоточены на
нейронах. Мы же считаем, что нейроны, вопреки принятой парадигме, не
единственные главные игроки в мозге. Есть ещё так называемые клетки глии,
которые окутывают нейроны. И вот эти клетки модулируют функции тех нейронов, с
которыми взаимодействуют. И мы пытаемся понять эти механизмы. Это, конечно же,
пока фундаментальная работа. Но из неё прямиком вытекает такое практическое
применение, как всяческие препараты для лечения различных заболеваний мозга. В
каких аспектах? Допустим, в аспекте преодоления гемато-энцефалического барьера.
Сегодня лечить какой-то химией какие-то болезни мозга очень сложно, потому что
многие вещества не преодолевают этот барьер.
О.О.:
То есть если вы пытаетесь воздействовать какими-то лекарствами, они просто туда
не…
М.П.:
Они до мозга не дойдут.
О.О.:
Они просто не попадают в нужный участок.
М.П.:
Его не пускают. Есть специальный физиологический барьер, который отсеивает по
каким-то своим механизмам то, что нужно мозгу, то, что не нужно. И большие
молекулы, как правило, проникнуть не могут, не могут дойти до нейрона. И,
скажем, один из практических аспектов этой работы – это нейромеханизмы, помощь
в создании лекарственных средств, преодоление таких барьеров.
Есть, конечно, и другие направления. Современные
генетические технологии, так называемое редактирование генома. Геномная
хирургия. Это совершенно новая технология. Только 3 или 4 года назад был
впервые показан механизм, разработаны молекулярный инструмент, при помощи
которого мы можем исправлять мутации в геноме фактически взрослого человека. То
есть сегодня мы это можем делать не очень хорошо на эмбрионах. Но уже подоспели
технологии, которые позволят это сделать практически у всех. Это будущее вообще
медицины. И одна из групп у нас в институте занимается как раз разработкой,
адаптацией вот этих технологий под исправление так называемой митохондриальной
ДНК. Технологии очень новые. И, конечно, здесь надо, во-первых, просчитать все
риски, нивелировать часть из них, если это возможно. Но все сходятся во мнении
том, что практически другого пути, кроме как редактирования генома для большой
части заболеваний у нас сегодня нет.
Ещё одно направление – это направление геномики
микроорганизмов совместно с Московским институтом микробиологии Ивановского.
Это институт Российской академии наук. Коллеги занимаются геномикой,
расшифровкой и аннотацией геномов экстремофилов. То есть это те бактерии,
которые живут в экстремальных условиях. Точнее, это не бактерии, это
микроорганизмы. Я поправлю себя сам. Так называемые археи. То есть это самые
древние микроорганизмы. И наш институт является одним из участников этого
проекта по их изучению. То есть мы читаем их геномы, мы делаем какие-то выводы.
Опять-таки, тут есть две составляющие: и научная, и прикладная.
Конечно, с промышленной точки зрения очень интересны
ферменты тех бактерий, которые живут и размножаются при температуре, допустим,
120 градусов. И это, несомненно, представляет интерес для промышленности.
О.О.:
Скажите, появился новый проект CoBrain.
Здесь как-то ваш институт участвует?
М.П.: CoBrain – это проект в рамках
Национальной технологической инициативы. Здесь надо понимать, что Национальная
технологическая инициатива – это комплекс мероприятий, в частности, Нейронет,
направленный на создание новых рынков. Для того чтобы эти рынки создавать, нужно
проводить какие-то дополнительные исследования. Помимо того, что делать уже
сегодня понятные вещи, допустим, мы говорили про импортозамещение. Мы сегодня
спокойно можем импортозамещать кохлеарные импланты, к примеру. То есть это
штуки, которые имплантируются у глухих людей при определённых повреждениях
слухового аппарата в определённые области, и человек просто слышит.
Но это создание новых рынков, когда требуется
определённая наука, когда требуются определённые разработки. И вот здесь возник
проект CoBrain.
То есть это проект внутри Нейронета, внутри этого направления Национальной
технологической инициативы, которое объединяет в себе несколько векторов.
Прежде всего это математика, это алгоритмика. То есть мы умеем сегодня
считывать какие-то мозговые волны. И дальше, чтобы дифференцировать
определённые сигналы, нам необходимо создавать определённый математический
аппарат и определённые алгоритмы. Другое направление – это то, что называется
разработка различных технологий нейроимиджинг. То есть это способы каким-то
образом считать активность мозга. В частности, та же энцефалография относится к
этому. Есть и другие способы – инфракрасный имиджинг и так далее. То есть
технологии, которые ещё сыроваты. И на их разработку, доработку как раз
направлен CoBrain.
О.О.:
Вы же член разных экспертных советов, рабочих групп при Министерстве науки.
Насколько экспертов слышат, не слышат?
М.П.:
Экспертов слышат. Более того, сегодня выстраивается система, когда скорее
повестку формирует экспертное сообщество. То есть мы потихонечку отходим от
системы, когда нам что-то навязывается сверху. Хорошо это или плохо, я здесь не
готов ответить на этот вопрос.
О.О.:
Как эксперту, наверное, конечно, хорошо.
М.П.:
Как эксперту – хорошо. Но есть тут и отрицательный аспект. Государство в лице
чиновников тоже должно уметь ставить задачи. То есть если вы посмотрите на
механизмы, как появляются те или иные тематики, которые финансируются, они ведь
не чиновниками инициируются. Они инициируются научным сообществом. И в этом
есть как плюс, так и минус. Минус в том, что, конечно же, учёный, как и бизнес,
будет идти по пути наименьшего сопротивления. Зачем ему идти на риски и просить
финансирование на какие-то рискованные прорывные исследования, когда он может
заниматься тем, чем он занимался 20 лет?
Если б государство ставило чёткие, понятные задачи,
какие научные, технологические барьеры надо преодолевать…
О.О.:
Подождите, а как государство может учёному про его задачи что-то рассказать? Вы
с министерством имеете дело регулярно. Вы же видели этих людей. Кто из них
способен фундаментальному учёному поставить задачу?
М.П.: Я
скорее говорю о более прикладной науке – о разработках, о том, когда
финансирование на какие-то более прикладные вещи. Фундаментальная наука – это
по определению творческий процесс, это поиск. Поэтому, конечно же, здесь
инициатива всегда должна исходить от учёного. Но когда мы говорим, что нам надо
что-то разработать, вот здесь должно определить государство. Либо рынок, либо
бизнес, либо государство.
О.О.:
В таком случае что же произошло с ГМО? Смотрите, первый раз, когда появилась
инициатива уже на законодательном уровне о том, что в России будет запрещено
производство генно-модифицированных продуктов, учёные, это была довольно
большая экспертная группа, написали в министерство науки, министерство науки
сказало, что совершенно с ними согласна и что оно тоже будет выступать против
этого закона.
Потом
как всегда было несколько итераций, много обсуждений, и так далее, и так далее.
Всё кончилось тем, что министерство науки одобрило прохождение этого закона, и
правительство приняло решение. Речь идёт о вполне понятных прикладных
исследованиях, речь идёт о рынках, о продуктах, о том, что мы с вами будем
есть. И мнение учёных просто проигнорировано. Как это объяснить?
М.П.:
Знаете, я, честно говоря, не знаю. Я здесь абсолютно с вами согласен. И я до
сих пор продолжаю утверждать, что нельзя было запрещать этого делать. Потому
что со временем мы начнём какие-то шансы и в сельском хозяйстве, и в научных
исследованиях в этой области. Хотя вроде как научные исследования в этой
области не запретили проводить, но когда, опять-таки, нет внутреннего заказчика,
конечно, они сильно тормозятся.
О.О.:
Во-первых, нет мотивации. А, во-вторых, есть ещё другой момент, что сами
группы, которые работали над этим, они говорят, что это произошло просто сейчас
автоматически. Эти темы закрываются прост на волне общего негатива.
М.П.:
Совершенно верно. Это плохо. Одно можно сказать – это плохо. Технология никогда
не должна быть предметом торга. Технология, если она есть, она должна
развиваться. Это торможение вообще развития сельского хозяйства по
определённому вектору.
Второй аспект – это то, что запрет введён к появлению
теневого рынка, любой запрет. Когда всё открыто, когда регулируется… давайте
посмотрим правде в глаза. Если мы сегодня посмотрим на статистику
Роспотребнадзора, у нас количество ГМО-сои в России резко снизилось, в то время
как количество посевных площадей в мире увеличилось.
О.О.:
Что это означает?
М.П.:
Это означает просто то, что мы всё равно едим генетически модифицированную сою,
просто мы об этом не знаем. У нас есть методология, у нас есть государственные
стандарты, при помощи которых контролирующие органы определяют,
модифицированная это соя или немодифицированная, но эти стандарты 2001 или 2003
года. Конечно, технологии изменились. Конечно, такие ведущие производители, как
компания Monsanto,
они уже давно не используют конструкцию JTS432.
О.О.:
С помощью которой…
М.П.: С
помощью которой можно определить, внести какие-то изменения…
О.О.:
Интересно и другое: поскольку у нас теперь мы не будем заниматься
генно-модифицированными продуктами, то выработать новые стандарты, чтобы они
соответствовали, мы уже не сможем.
М.П.: Мы
уже не сможем, совершенно верно. То есть по отчётам получается, что мы их не
будем потреблять, а на самом деле будем потреблять, но не знаем.
На самом деле мы вот этим запретом вывели всю эту
систему из-под контроля сами, своими руками. Надо было не то, что запрещать,
надо было наоборот вкладывать деньги и развивать.
О.О.:
В вашей судьбе произошёл такой удивительный зигзаг: вы из наукограда Пущино
уехали в Калининград. Но Пущино – это такое же легендарное место, для учёных
намоленное. Какой у вас был самый важный опыт жизни в наукограде?
М.П.:
Во-первых, это, конечно, школа. Это история. Но, говоря по правде, от этой
истории я и бежал, наверное. Потому что любая история в научных организациях
тянет вниз любую организацию. Чем меня привлёк Калининград? То, что там дали
возможность с нуля создать направление так, как я это считаю нужным.
О.О.:
А вы в одном из интервью сказали, что в маленьком городе Пущино каждый день –
это такой день сурка.
М.П.:
Действительно, в Пущино единственным аспектом приложения своих сил было научное
исследование. Сейчас у меня совершенно разнообразная деятельность, начиная с
административной, исследовательской в каком-то плане, это уже скорее как хобби,
то есть на что хватает времени; работа со школьниками с целью истребления того
самого мракобесия, которое будет. То есть это один из аспектов, который, я
считаю, мы должны сейчас проводить. Вообще много разной деятельности. У меня
бывают разные дни. Но то, что какой-то день сурка – нет.
О.О.:
Спасибо огромное. У нас в программе был директор Химико-биологического
института Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Максим
Патрушев.