Артем Кобзев: Китайская "Книга Книг" - самый древний и самый авторитетный в мировом масштабе оракул
Артем Кобзев: Китайская "Книга Книг" - самый древний и самый авторитетный в мировом масштабе оракул
https://otr-online.ru/programmy/figura-rechi/artem-kobzev-23939.html 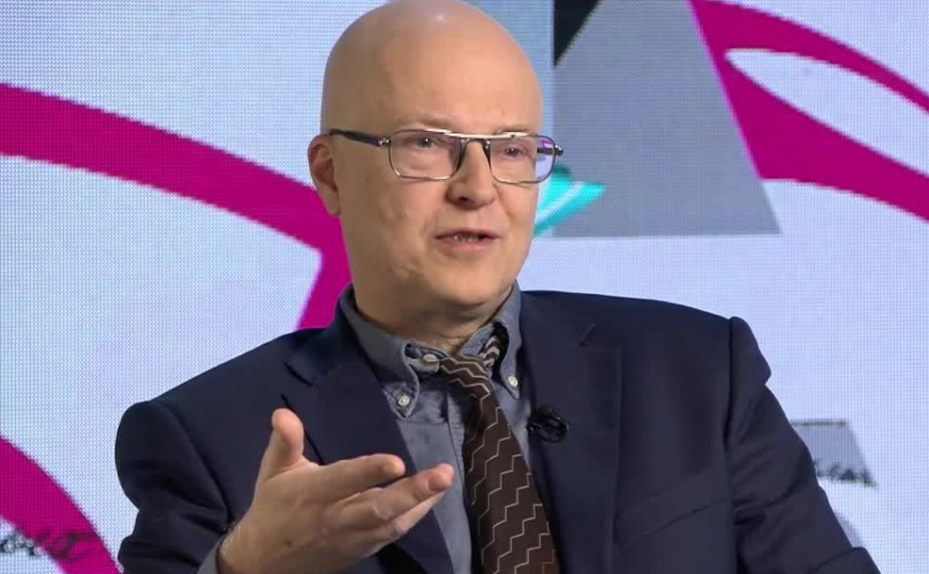
Николай
Александров: Мир
китайской культуры и китайского языка сегодня в центре нашего внимания.
Совершенно особенное китайское мышление и совершенно особый китайский язык. Но,
кстати говоря, не только язык, но и канонические китайские тексты, которые актуальны
и до сих пор. А у нас в гостях китаист Артем Кобзев. Артем Игоревич,
здравствуйте.
Артем
Кобзев: Здравствуйте.
Н.А.: Мы сегодня поговорим о китайской культуре.
И для начала мне хотелось бы спросить вот что. Насколько идеографическая…
А.К.:
Хотите – логографическая, хотите – идеографическая, хотите – пиктографическая.
Много вариантов.
Н.А.: "Пикто" уже меньше. Но
идеографическая и письменная сказываются вообще на ментальности, на сознании
китайцев. Что это такое – жить между письменным и устным языком? Что такое иероглифическая
культура?
А.К.:
Хороший вопрос. На него может быть короткий ответ. Иероглифическая культура –
это культура. Почему? Да потому что в китайском языке одним и тем же иероглифом
обозначается и письменность, и любые письменные знаки. И литература – как
художественная, так и нехудожественная. И культура в целом. Вот это очень яркое
свидетельство того, что китайцы отождествляли культуру с письменностью, с
литературой и с иероглифическими знаками.
Этот иероглиф звучит как "вэнь",
то есть "культура". У него очень интересная этимология. Я даже
студентов часто спрашивают об этом, чтоб они догадались, что это за культура.
Этимологически знак восходит к рисункам, но на человеческом теле. То есть это
татуировки. Вот первая культура – это знаки на человеческом теле.
Н.А.: Это магические письмена, да? Допустим, у
древних евреев в иудейской традиции запрещено писать на теле.
А.К.:
Нет. Я думаю, что эта китайская этимология носит универсальный характер. И всякое
табуирование на самом деле – это свидетельство более древнего, глубинного
распространения этого явления. Так же как если вы хотите про семитические
культуры, то, например, на употребление свинины – это как раз очень загадочная
штука. Как раз это свидетельство сверхценности этого продукта, который
табуируется. Поэтому, конечно, у всех народов мира когда-то были такие приемы
перенесения маркирующих знаков, идентифицирующих людей. Паспортов не было.
Свидетельств о рождении не было. Вот так обозначали людей. Но потом, конечно,
это все оторвалось.
Здесь проблема вот в чем.
Если мы уж коснулись происхождения этих знаков, она интересная и не решенная до
конца. Кстати, мы сейчас находимся в такой стадии больших дискуссий
относительно происхождения китайской иероглифики. Потому что до недавнего
времени, вообще говоря до конца XIX
века считали, что иероглифы произошли, тексты существовали… Это где-то 3000
лет. Не больше. Хотя китайцы сами писали о том, что они были более древними,
что они связывали их происхождение с основателями китайской цивилизации,
подтверждая эту семантику самого знака "вэнь". Но на рубеже XIX и XX века вдруг стали находить кости,
которые сами китайцы считали костями дракона. На костях дракона они
обнаруживали некоторые знаки. Кстати, тоже интересный подход. То есть с точки
зрения китайца на природном явлении кости найти культурный знак – это нормальное
дело. Ничего тут странного. То есть этой границы между культурным и природным у
них нету. Она размыта. Такой континуум существует. А потом ученые выяснили, что
это древнейшие письмена. Они до недавнего времени считались… цзягувэнь, то есть
надписи на костях и панцирях черепах. Под костями имеются в виду лопаточные
кости крупного рогатого скота.
И они действительно выполняли
такую мантическую функцию в основном. Датировки – это примерно от середины II тысячелетия до новой эры до условно
1000 года. На основе этих текстов сложилась главная китайская книга - "Канон
перемен". Это китайская библия, или "Книга книг" китайской
культуры. Она выросла из этой мантической практики гадать.
Н.А.: Теперь обратимся все-таки к книге книг,
"Книге перемен". Поскольку это даже для европейского сознания, или в
первую очередь для европейского, - загадочный памятник.
Я
помню, в середине прошлого века и уж во всяком случае в 1970-1980-е годы, когда
"И цзин" пришла в русскую культуру, во многом рассматривалась как такая
забавная игра для гадания, когда с помощью этих замечательных знаков можно
было, выкидывая кубики с числом, обнаружить в тексте какую-то закономерность.
На самом деле что это такое?
А.К.:
Во-первых, я должен уточнить само название. Вы называете это произведение
книгой и даже как-то смягчаете, говорите "И цзинь". Я настаиваю на
том, что хотя в китайском языке нет категории рода, тем не менее это "И
цзин" и это канон. Потому что в китайской культуре жестко различаются
книги и каноны. Каноны иногда переводят как классические книги. Но лучше
пользоваться термином "канон", потому что под ним подразумеваются не
только особой значимости книги – выделенные, лучшие, священные книги, но и
книги, построенные по определенной форме. Это особый разговор. Но в силу минимальности
грамматики языка, она просто минимальна, некоторые даже считают, что ее и нет
как таковой, чтобы текст был организованный, нужны были какие-то
метаграмматические построения. Они есть в китайской культуре. И одной из таких
наиболее сильных форм является форма канона. Чтобы было понятно, такой формой
является, например, поэтическая форма, где есть ритм, рифма. Вот каноны имеют
нечто подобное в своем строении. Поэтому это канон.
Теперь что касается
функций. Загадочность этого канона продолжает оставаться не только для
европейцев, но и для самих китайцев… Хотя сейчас тоже произошли некоторые
фундаментальные открытия. Самое известное – в начале 1970-х нашли древнейшие
рукописи, то есть нашли тексты II
века до новой эры, даже с некоторым иным расположением вот этих гексаграмм, из
которых состоит текст.
Н.А.: Я напомню и телезрителям. Гексаграмма – это
с одной стороны иероглиф, но не вполне иероглиф. Это прерывистая и сплошная
линия. И из сочетаний вот эти шесть полосок образуют эту гексаграмму.
А.К.: Гексаграмма
– это вообще не иероглиф. Это фигура. Кстати, термин "гексаграмма"
тоже не очень хорош. И он западного происхождения. Он говорит о том, что эта
фигура состоит из 6 черт. Но одним и тем же термином gua обозначается и фигура, состоящая из 3
черт, образующая половину этой гексаграммы. Мы ее называем триграммой, но
китайцы и то, и другое называют одним и тем же термином.
Это действительно 64
фигуры, состоящие из черт двух видов, то есть целой и единожды прерванной. Они
соответствуют уже упомянутым нам женскому и мужскому началу. Мужское,
соответственно, целое, женское – прерванное. Или активному/пассивному, темному/светлому
и так далее. То есть весь мир так бинарно классифицируется и выражается вот
этими чертами. В нашей современной культуре этому соответствует двоичная
арифметика.
Н.А.: Условно говоря – компьютер.
А.К.:
Двоичная арифметика как основа всех программ, заряженных во все гаджеты,
компьютеры современной западной культуры.
Гексаграммы имеют
графическую форму и, кроме того, имеют числовую форму, то есть каждой черте
приписано то или иное число двух видов: шестерка или девятка. Есть такие
фигуры. К этим фигурам приписано некоторые тексты. То есть каждой черте
приписан текст, триграмме.
Н.А.: Это текст-толкование?
А.К.:
Да. Они называются иногда афоризмами. То есть это некие мантические формулы…
Н.А.: Такой китайский талмуд получается.
А.К.: Вы
правы. Это явление, которое сопоставимо с еврейской Каббалой или с
пифагорейскими текстами. То есть это некоторые маргинальные явления в западной
и ближневосточной культуре, которые были подавлены рационализмом
аристотелевского типа. Вот у Платона, например, пифагорейство и будущий
аристотелизм еще совмещаются, но потом пифагорейство отходит куда-то в сторону.
В эпоху Возрождения оно тоже возрождается, но потом опять уходит.
А вот в Китае оно стало
магистральной линией. Но это происхождение. Функция сохраняется. Действительно
гадают. Но гадали изначально несколько иначе.
Н.А.: Артем Игоревич, давайте с каноном завершим.
То есть на самом деле "Книга книг", или "Книга перемен" –
это канон, где толкуется каждая из гексаграмм, или каждый знак или половина этого
знака. И, более того, у этих знаков существует цифровое и некоторое
содержательное значение. И комментарии составляют книгу?
А.К.:
Структура книги довольно сложная. В основе лежат вот эти фигуры, которые
построены вообще-то по математическому принципу. Потому что два вида черт,
шесть позиций. И все возможные комбинации. 64 комбинации. Следующий возникающий
вопрос – как они следуют друг за другом? В том варианте книги, который является
классическим, расположение называется расположением Вэнь-вана. Вэнь-ван
(кстати, там тот же самый иероглиф "вэнь") – это создатель
классической китайской культуры, живший около 1000 года до н.э. Это
расположение имеет какие-то свои внутренние порядки, но довольно сложные. Там нет
единого алгоритма.
Создатель европейской
двоичной арифметики Лейбниц – признал китайское первенство, потому что он
получал информацию от корреспондентов из Пекина, иезуитов, и был сведущ в этом
вопросе.
А вот другой порядок,
который при перекодировке в 0 и 1, как в двоичной арифметике, дает прямую
последовательность натурального ряда (от 0 до 63) – это порядок Фуси. И вот тут
возникает некоторая загадка, что это. Это некоторая более поздняя
упорядоченность этих знаков, или это изначальная модель, которую понимали
древние китайцы и создали такую протосистему. Кстати, создатель европейской
двоичной арифметики Лейбниц – он-то признал китайское первенство, потому что он
получал информацию от корреспондентов из Пекина, иезуитов, и был сведущ в этом
вопросе.
Н.А.: А теперь о функции этой книги.
А.К.:
Изначально считается, что функция гадательная. Но, опять же, понимаете, гадания
то гаданиями, но описания этих гаданий очень напоминают научные процедуры,
научные прогнозы. Вот эта научная составляющая, математическая или
прогностическая, вот этот рациональный подход к делу очень ярко высвечивается.
Что это значит? Вот записывали вопрос на этих панцирях черепахи или костях,
потом их прокаливали. Для этого подготавливали, делали некоторые лунки, чтобы
там трещины образовались. Трещину, появляющуюся после прокаливания кости,
интерпретировали. И записывали. То есть записывали вопрос, ответ, а потом еще
записывали результат гадания. То есть исполнилось/не исполнилось и как
исполнилось. Вот нормальная научная процедура. Предвидение – и вот его
проверяют.
Сначала гадали на костях.
Потом стали гадать на стеблях тысячелистника. Это та самая чернобыльская трава.
То есть брали сначала 50 стеблей и определенным образом их на кучки
раскладывали, и получали числа. То есть сначала в первой процедуре получали
формы, то есть эти линии. И, собственно, иероглиф, который обозначает это
гадание, он и рисует эти линии, трещины, образующиеся на костях. А потом стали
раскладывать стебли.
У нас как раз упрощенный
вариант, тоже китайский древний – это когда бросают три монеты. Наши зрители
тоже могут это сделать. Три монеты, у них аверс и реверс, числа 3 и 2. И если
вы будете их бросать, то у вас возникнет всего 4 варианта. Там как раз числа 6,
7, 8, 9. И они эти четыре числа… Дело в том, что там есть еще дифференциация
инь и ян на старую и молодую. И поэтому строите эти гексаграммы. То есть здесь
начинается числовой процесс. То есть там как бы геометрический, а тут –
числовой. И на всем на этом построена древнейшая гадательная (мантическая)
функция по использованию этого канона.
Хочу заметить важную вещь:
это самый древний и самый авторитетный в мировом масштабе оракул. И он на
Дальнем Востоке использовался до последнего времени. Кстати, даже важнейшие
события, создавшие современный мир, события Второй мировой войны на Дальнем
Востоке, были связаны с этим. Потому что в японском генштабе использовали эту
книгу именно в такой функции.
Поэтому, чтобы понять принятие
ими решений, надо тоже знать, как все это вообще делается. Но потом, уже
начиная с времен Конфуция, когда в Китае возникла философия, эта книга была
введена в такой философский дискурс. И гадательные формулы, привязанные к этим
фигурам, стали определенным образом толковаться. И книга обросла внутренними
комментариями. Внутри нее есть так называемые "десять крыльев", то
есть это такие комментарии разного рода, которые объясняют последовательность
гексаграмм, их значения и так далее. И внутри есть некоторый такой вообще
культурологический философский, который рассказывает о появлении китайской
культуры, о том, как иероглифы возникли, как древний император Фуси смотрел на
небо, видел звезды, их расположение, созвездия и оттуда выводил иероглифы. Или
смотрел на следы птиц на земле и тоже выводил из них какие-то знаки, которые
становились иероглифами. И дальше таким образом эта книга легла в основу
китайской философии, причем, всех видов. Там, разумеется, есть разные
философские школы. Но все они признают это произведение как методологическую
основу. То есть это некоторый аналог аристотелевской "Логики",
которую трактовали древние греки как органон, то есть универсальное орудие для
любой философской деятельности, для любой философской мысли, для создания любого
мировоззрения.
Н.А.: То есть, иными словами, конечно,
гадательная функция уж совсем прикладная и достаточно узкая. А толкование и
понимание этих знаков или комбинаций этих знаков – это и есть основа такого
философского осмысления "Книги книг".
А.К.:
Тут сложно сказать. Тут вообще на самом деле есть такой научный спор, что
первичнее и что важнее в этой книге. Там с самими знаками понятно, что они
происходят как гадание, но книга состоит все-таки из иероглифических текстов
философского характера. И узко ли первое понимание – это вопрос. Потому что вся
китайская культура построена на особом отношении ко времени. Там совершенно
другое отношение ко времени. Категория времени играет гораздо большую роль, чем в западной культуре.
Потому что для западной культуры, для фаустовской души - "Остановись,
мгновенье, ты прекрасно". Вечность как божественная характеристика
существования в высшем мире – это важно. Мгновение должно быть остановлено. А
эта книга, китайская "Книга книг", говорит об универсальности изменений.
Изменений в чем? Во времени. Поэтому вечности западной культуры противостоит
тотальное, универсальное, всеобщее изменение в китайской культуры как самая
общая категория. А если это так, то важнейшей становится процедура предвидения.
Самое главное – узнать, что
будет во времени. И другой методики, кроме гадательной, у китайцев не было.
Поэтому это вообще-то говоря вещь универсальная даже в своей гадательной
функции.
Н.А.: Артем Игоревич, остается спросить:
существуют ли канонические тексты толкований, насколько они авторские или нет?
Или просто существует безымянный канон, условно говоря, толкования "Книги
книг"?
А.К.:
Безусловно, все привязывается к каким-то авторитетным именам. Но вообще в самой
китайской традиции считается, что эти философские трактовки были даны самим
Конфуцием, то есть человеком №1 китайской культуры, главным брендом Китая. То,
о чем я говорил… У нас переводят так: "Предание привязанных афоризмов"
(то есть они привязаны к этим текстам). Его создал Конфуций. Но на самом деле
до сих пор неизвестно, создал ли он, отредактировал – это другой вопрос. Но, в
общем, какое-то участие в создании этого произведения он имел.
Первый русский перевод
"Книги перемен" осуществлен нашим гениальным соотечественником
Юлианом Щуцким в 1935 году из мистических побуждений. Он был сторонником
антропософии и делал это в предвидении мировых катастроф, что, кстати, и
случилось. То есть буквально, занимаясь этой мантической книгой, он предсказал
грядущие катастрофы.
Далее все крупные
выдающиеся китайские философы всех времен писали комментарии. Поэтому
существует целая библиотека этих комментариев. Более того, я уже сказал, что
его признали не только каноном конфуцианской традиции. Он признан в Китае
каноном даосской традиции и каноном китайско-буддийской традиции. И,
соответственно, существуют и в этих традициях трактовки буддийские и даосские.
Кстати, первый русский перевод, осуществленный нашим гениальным
соотечественником Юлианом Щуцким в 1935 году, причем, из мистических
побуждений, поскольку он был сторонником антропософии и делал это в предвидении
мировых катастроф, что, кстати, и случилось. То есть буквально, занимаясь этой
мантической книгой, он предсказал грядущие катастрофы. И сам, кстати, погиб в
этой катастрофе – был в 1937 году расстрелян как тамплиер, что очень
фантасмагорично.
Первый русский перевод
основной части этого произведения, осуществленный в 1935 году расстрелянным как
тамплиер Юлианом Константиновичем Щуцким, включал в себя как раз комментарии
трех видов: именно конфуцианские, даосские и буддийские.
Поэтому здесь можно ткнуть
в любое авторитетное философское имя в этой традиции, и там мы найдем более или
менее полные комментарии к этому И-цзину. На Западе он известен как И-цзин, и
здесь присутствует это слово "канон". Но еще есть другое название –
Чжоу-и, то есть "Перемены эпохи Чжоу", или "Всеохватные перемены".
Я повторяю, что сейчас
очень много нового в этой области сделано. Были сделаны выдающиеся открытия,
найдены новые тексты, их исследуют на западе и у нас. Кстати, в России даже в
конце прошлого века целая школа сложилась по изучению этого произведения.
Н.А.: Артем Игоревич, мне было крайне любопытно
беседовать с вами. Тем более, что в разговоре об ицзинистике… Существует такая
наука сейчас?
А.К.:
Да, конечно.
Н.А.: Можно говорить бесконечно. Но, по крайней
мере, будем считать, что это такое введение в огромную тему, равную по существу
вселенной, целому миру.
А.К.:
Да, это так.
Н.А.: Спасибо большое.
А.К.:
Спасибо вам.