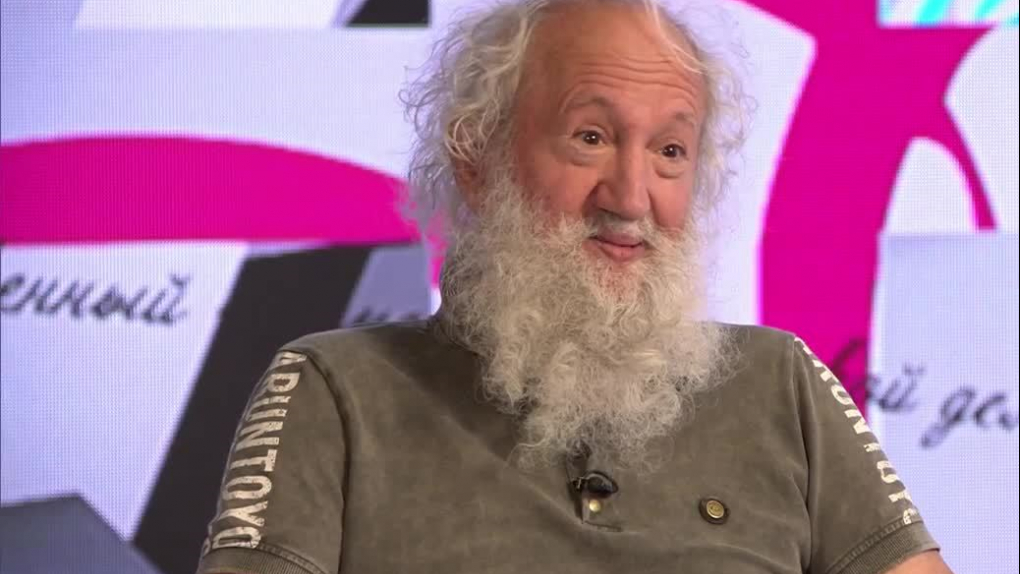Ефим Руах: Художник – это не изготовитель декораций и костюмов – это разработка драматического образа
https://otr-online.ru/programmy/figura-rechi/efim-ruah-hudozhnik-eto-ne-izgotovitel-dekoraciy-i-kostyumov-eto-razrabotka-dramaticheskogo-obraza-32308.html 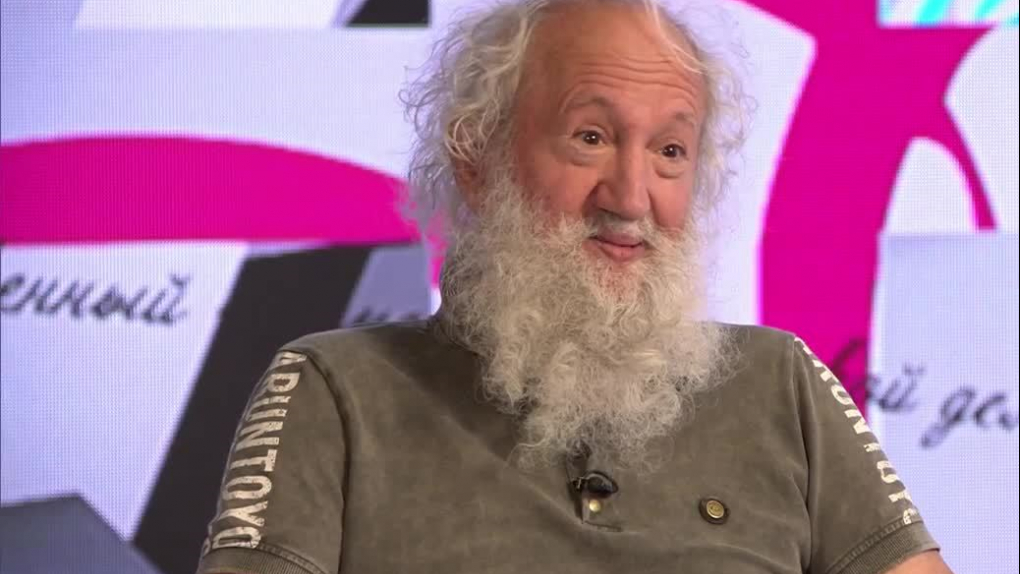
Николай Александров: Ефим Борисович Руах, известный театральный художник, преподаватель. С ним мы будем беседовать о специфике мастерства театрального художника. Что это за особенная профессия и что это за особый способ творческого выражения? На чем строится театральный образ и в чем роль театрального художника в его построении?
Ефим Борисович, здравствуйте.
Ефим Руах: Здравствуйте.
Николай Александров: Мы будем говорить об особенностях профессии театрального художника и о том, каким образом он связан с целым пластом разных смыслов в театральной постановке. Но для начала я хотел бы задать вроде бы простой вопрос: в чем разница между художником и театральным художником? Или здесь нет никакого различия?
Ефим Руах: Поскольку я рядовой художник, я не связан рамками научного театроведческого дискурса, я могу себе позволить высказываться довольно вольно. У меня ощущение, что разницы, конечно, нет. Всякое творчество – это прежде всего, как говорил Платон, из небытия в бытие. Это нечто новое с точки зрения семантики, с точки зрения семиотики. Но сама по себе идея темы всегда была. Нет ничего нового в этом мире. Любой художник, какую бы новую тему он ни взял, у него всегда будет в истории искусства предшественник, который это уже трогал, делал, и иногда до уровня шедевра.
Так что тут ничего нового нет. А театральный художник – это всего лишь вопрос технологии и специфики. Тема любого художника – это построение образа.
Николай Александров: А разве театральный художник не зависит от режиссера? Он, может быть, находится в менее свободного состоянии, нежели просто художник, который может обратиться к любой теме и, соответственно, как угодно ее воплотить. Режиссер – значимая фигура для художника?
Ефим Руах: Вы знаете, жизнь подсказывает колоссальное количество вариантов, когда режиссер идет за художником, когда художник в полном подчинении режиссера и вообще ни шагу влево, вправо. И есть уникальные творческие союзы. Это каждый раз по-разному.
Николай Александров: А в вашем опыте вы можете привести примеры?
Ефим Руах: Есть и то, и другое, и третье. Конечно, самое большое счастье – это диалог с режиссером на взаимопонимании. Когда подхватывается творческая мысль, и образ рождается прямо в живой беседе. Это огромное счастье. А потом наступает уже проблема воплощения, проблема технологии. Это вполне понятно и, наверное, скучно.
Николай Александров: А у вас есть какой-нибудь пример такого творческого счастья - абсолютного понимания, абсолютно адекватного диалога с режиссером. В вашем опыте.
Ефим Руах: Да, и, к счастью, не один, а много. Потому что этих режиссеров мир не знает. Они не медийны. Но я могу назвать их имена: Максим Мышанский, Елена Порошина, Евгений Лавренчук. Это люди, с которыми я работаю, получаю колоссальный прилив вдохновения. Потому что есть огромный культурный пласт в самом режиссере, который резонирует на любую мысль художника. Это очень важно.
Но построение образа – это, наверное, вообще задача любого художника. Потому что художественный язык – он только язык. Он не цель, а средство. А вот образ, который рождается, имеет свойство (особенно в живописи, в литературе и поэзии) отделяться от автора и жить самостоятельно. Вот это уже настоящий образ.
Николай Александров: Какая постановка для вас самая запомнившаяся?
Ефим Руах: "Анна Каренина" в Томске. К сожалению, спектакль был тут же практически снят в том же году. Это уже вопросы театральные. Сейчас я делаю с Еленой Порошиной спектакли под открытым небом. Обычно это хлеб для людей, которые быстро хотят заработать деньги – для режиссеров, актеров. В этом случае счастливое исключение. Каждый спектакль – событие. Вчера была премьера. И я очень счастлив за Порошину.
Николай Александров: Возвращение к античной простоте?
Ефим Руах: Да. Вообще-то античность во всех проявлениях пронизывает каждое произведение, если мы говорим о серьезном художественном уровне. Берем ли мы поэзию, берем ли мы живопись. Античность присутствует как интонация, как тембр, как аура. Но она всегда есть.
Николай Александров: А если это спектакль под открытым небом, роль художника какая? Это свет? Какие у него существуют средства выразительности?
Ефим Руах: Дело в том, что художник – это не изготовитель декораций и костюмов, это ремесло. Сценография – это разработка драматического образа. Поэтому это совместно с режиссером. И лексика, и тезаурус спектакля вырабатываются в процессе этого диалога режиссера и художника. Без этого невозможно. А иначе получается: актеры заучили слова, их одели в костюмы, они вышли на площадку. Ну что тут художнику делать? Очень многие режиссеры вообще обходятся без художника. Идут в интернет, смотрят исторические фильмы, тычут пальчиком в экран и говорят: "Я хочу такой референс, я хочу такой костюм, я хочу такой интерьер". И все.
Николай Александров: Если это не только декорации и костюмы, в чем еще тогда работа художника вместе с режиссером?
Ефим Руах: Тут очень сложная тема, Николай Дмитриевич. Она вызвана тем, что есть драматургия, что есть композиция. Это в любой: и в живописи, и в поэзии – где угодно. Потому что в этой драматургии самый главный термин – движение. Вот над движением и приходится работать. Но если в гениальной работе Делеза "Кино" движение рассматривается от начала до конца как визуальные образы, если в музыке движение тоже имеет начало и конец, это слишком обычные вещи, то в живописи, в театре, в драматургии образ требует другой основы движения. Это движение построено совершенно по другим принципам. И здесь надо говорить уже о проблемах восприятия. Дело в том, что есть визуальная матрица восприятия, благодаря которой мы все живем. Потому что мы сразу видим, что это лестница, мы сразу видим, что это спуск или подъем. Мы не задумываемся. Это еще досемантический уровень. Визуальная матрица – это та основа, на которой строится движение, потому что шаг за шагом, строя всю семиотическую структуру образа, где-то его ретардируя, где-то его ускоряя – за счет тембра, интонации, пауз. Набор художественных приемов очень огромен. Но возникает тема движения, возникает образ движения. И вот он является смыслом всего. И театральный ли художник, живописец ли, чуть-чуть в разных аспектах, но работает с темой движения. Без движения мы имеем… Я даже не знаю, как это назвать. Движение во всем. Либо оно остановлено, либо оно очень ускорено. Но если в кино для этого есть масса монтажных приемов, приемов кадрирования, если в живописи это тоже уровень композиции, то в театре, например, это тембры голосов, это уровень светоподачи на сцену, это сама по себе мизансцена как порядок означающих. Это все вопрос языка. И движение здесь – это то, ради чего все делается. И если движение состоялось и оно наполнено осознанностью, то образ возникает и начинает отделяться от спектакля, от картины и существовать сам по себе.
Николай Александров: Иными словами, художник принимает участие во всей постановочной работе, он следит за движением на сцене, он отслеживает интонацию актера, повышение и понижение тона, например.
Ефим Руах: Мизансценирование. Но дело в том, что все, что стоит на сцене, это такие модуляции пространства: подиумы, лестницы, канаты – неважно, что. Одна и та же реплика, сказанная на метр глубже на сцене, правее или левее, на метр, на два метра выше – это совершенно иная реплика. У нее совершенно иная семантика. И если режиссер и художник друг друга понимают, возникает интереснейшее явление.
Николай Александров: Вы принимали участие в постановках самых разных. А сам характер и жанр ставящегося произведения, допустим, драматическое, оперное или балетное, оказывают воздействие на художника? Где вы себя чувствуете более свободно? Или все равно, что именно вы оформляете или над чем вы работаете? Над оперой, балетом или драматическим спектаклем.
Ефим Руах: Скажем, вы пишете эпиграмму, сонет, мадригал или оду – это вопрос жанра. Самое главное, что вы делаете, когда вы пишете – вы смотрите вглубь образа, вы ищете образ. А все остальное – это только предлагаемые обстоятельства работы. И, конечно, в опере работать предпочтительнее, потому что вашу работу сопровождает божественная музыка. Или в балете. Эта магия музыки, конечно, очень искушает. В драматическом спектакле музыку приходится искать, подбирать и так далее. Это разные вещи.
Николай Александров: А вот это музыкальное оформление может входить в противоречие с работой художника или нет?
Ефим Руах: Никак.
Николай Александров: Нет?
Ефим Руах: Понимаете, в чем дело? Это было бы очень странно. Вообще художник, который не участвует во всем этом процессе, он мне кажется странным и, может быть, непрофессиональным. Потому что все, что происходит на сцене, художник участвует во всем. Он откликается, на все резонирует. Ну, как же? Музыка – это душа спектакля. Она создает атмосферу. Как художник это минет? Невозможно себе даже представить.
Николай Александров: Получается, что художник, так же как и режиссер – интерпретатор художественного произведения. Если говорить о рождении образа. У нас существует канонический сюжет, а ваша задача – создать некий образ, который бы соотносился с сюжетом, но был бы самостоятельным и самодостаточным, жил бы своей жизнью.
Ефим Руах: Безусловно. Во всех отношениях. Вы абсолютно правы. Здесь другого не дано. Сколько сотен лет ставится "Гамлет"? Каждый раз этот текст рождает новые образы, новые смыслы. Это и есть творчество. А без этого я себе не представляю театра.
Николай Александров: Если вспоминать постановку, которую вы упомянули как одну из самых важных для себя работ, "Анну Каренину", а что за образ был найден в этом случае?
Ефим Руах: Это был гимн в честь текста Льва Николаевича Толстого. То есть мы с режиссером сразу отказались от идеи, такой профанной истории про измену жены мужу и прочую рационализацию этих отношений. Это следствие. А самое главное – текст Льва Николаевича. Этот божественный текст. И весь спектакль был посвящен тексту. И такого больше не встречал. Обычно текст всегда подкладывается под некое действие, под некую историю, что вполне правомерно. Но в случае с Толстым было бы недостаточно.
Кстати, спектакль "Война и мир", по-моему, в студии Фоменко. Вот они тоже замечательные актеры, божественный режиссер Фоменко, но текст был следствием действия. Они искали действие. А нам хотелось текста. Это теперь уже этого не увидишь. Только на видеозаписях.
Николай Александров: Чрезвычайно интересно. Потому что что же такое образ текста на сцене?
Ефим Руах: Вы ставите очень сложный вопрос. Это проще делать. Это школа великого режиссера Романа Григорьевича Виктюка, для которого текст всегда является первоочередной функцией спектакля. И его насыщение слова энергетикой, смысловыми ударами – это не мелодекламация, это особая форма существования речи на сцене. И Лавренчук был одним из лучших учеников Романа Григорьевича. И он реализовал это.
Николай Александров: То есть, иными словами, не столько история, не столько трагедия Анны Карениной, сколько сам Толстой.
Ефим Руах: Конечно. И это естественно, потому что вся наша культура существует в языке. Это язык Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Чехова. Мы все существуем благодаря этому языку и внутри языка. И естественно, что иногда в силу некой режиссерской наивности ищется действие, так называемое исходное событие. А сам текст вдруг исчезает. Особенно пострадал от этого Антон Павлович Чехов.
Николай Александров: Хотелось к этому обратиться, Ефим Борисович. Потому что, помимо вашей творческой действительности, вы же еще довольно много преподавали. И вы сказали, что один из последних семинаров был связан с поэтикой Чехова. Для меня это крайне любопытно, потому как в данном случае художник вторгается уже в область филологическую, литературной интерпретации. Что для вас поэтика Чехова и на что вы обращаете внимание, тем более когда разговариваете с молодыми режиссерами, художниками, которые будут Чехова воплощать на сцене?
Ефим Руах: Всегда это разговор очень трудный, сложный, потому что, к сожалению, отношение к Чехову, опять-таки, как к бытописателю. И его речь особенная. Особенно в "Трех сестрах", "Вишневом саду", "Дяде Ване". Позвольте пример.
- Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился.
- Отчего вы ходите в черном?
- Это траур по моей жизни.
Вы слышите эту связку? Но эти связки постоянны. Эти связки везде. Это только один слой. Поэтика Чехова связана с использованием разножанровости речи. У него в одной фразе встречаются архаика и высокий стиль. Часто его герои кажутся пафосными, говорящими какие-то смешные вещи.
"Работать, надо работать", - говорит барон. И тут же говорит, что "я никогда в жизни не маялся, семья никогда не работала". С одной стороны, этот комедийный ироничный слой. Вместе с тем Чехов всегда помещает поэтическое высказывание в пошлую ситуацию. И это создает особое напряжение, особое звучание именно поэзии. Потому что поэзия в поэтических обстоятельствах не менее пошлая.
Вот чувство слова и чувство речи у Чехова уникально. Нет более яркой силы речи в драматургии, чего у него. Никогда больше мировая драматургия такого подвига не повторит. При этом его основная структура была подхвачена потом совершенно бессознательно футуристами, авангардистами, абсурдистами. Но начало абсурда у Чехова. И что там Беккет, Ионеско? Их, конечно, рядом с Чеховым сравнить невозможно. Но, вместе с тем, его абсурдизм – не абсурдизм ради абсурдизма. Это прием, который позволяет ему все время находиться на уровне божественной иронии. Это тоже свойство Чехова. Говоря о божественной иронии, я привожу простой пример. Если вы наблюдаете игру детей в песочнице и вы слышите плач по поводу разрушенного… рыдание. Для ребенка разрушился мир. Для него это трагедия. Но вы же не идете разбираться с другим ребенком и его карать. Вы улыбаетесь, как и сейчас. Для вас это детские игры. Вот божественная ирония – это взгляд на человека именно с этой высоты. Это мог позволить себе только Чехов. Немалую роль в этом играло то, что он чувствовал, что он неизлечимо болен. Это взгляд с другой стороны. И когда все говорят "в чем комедия Чехова?", я говорю моим ребятишкам, что, представьте, вы получили справку, что вы неизлечимо больны, положительная реакция на ВИЧ. А после этого пишите комедию. Какую комедию вы напишете?
Божественная ирония – это всепрощающий взгляд на человека. У него нет героев. Но у него нет злодеев. И еще достижение Чехова – дискоммуникация. Ведь все его герои никогда не говорят друг с другом. Они говорят в присутствии друг друга.
Еще одно достижение Чехова – респонсорный псалмодий. "В Москву, в Москву. Какая все это чепуха. Все вздор". Реплики идут одна к другой встык. И это совершенно меняет смысловую структуру того, что произносится. К сожалению, я очень редко вижу на сцене Чехова.
Николай Александров: Я понимаю с точки зрения филолога, каким образом оценить текст и то, о чем вы говорите. Что это значит для художника и режиссера – понимание чеховской поэзии?
Ефим Руах: Для художника и режиссера. Потому что вначале было слово. То есть вся атмосфера, все визуальные образы идут от слова. Или они рождают слово. Но эти вещи абсолютно связаны. И не может быть текста, не связанного с атмосферой. Это только если брать постмодернистов. У этих ребят все может быть. Текст отдельно, визуальный образ отдельно. Я не берусь тут судить. Еще раз говорю. Все цветы пусть цветут. Как говорят китайцы. Нет такого режиссера, нет такого поэта, нет такого актера, у которого не было бы своей аудитории, своей публики, своих поклонников. Наверное, это тоже кому-то нужно. Другое дело, что это не мое. Я не берусь выносить какие-то суждения.
Николай Александров: Ефим Борисович, в завершение нашей беседы хочется затронуть еще одну тему. Вот вы говорили о том, что работа художника в театре – это в первую очередь движение. Но, с другой стороны, художник в театре – практически скульптор, хотя бы потому, что он работает в трех измерениях. Это еще и работа с пространством.
Вы говорите, что сейчас вы ставите спектакли под открытым небом. Это совершенно другое пространство. В чем для вас как художника специфика театрального пространства и, соответственно, театрального времени, потому что в любом случае это другое время.
Ефим Руах: Пространство и время в театре неразрывно связаны. Они рождают одно другое. И в чем для меня… Вы говорите – скульптор. Нет, это не скульптура. Это все-таки больше для меня музыка. Скульптура работает с чистым временем.
Николай Александров: Ефим Борисович, огромное вам спасибо за беседу.
Ефим Руах: Спасибо вам.