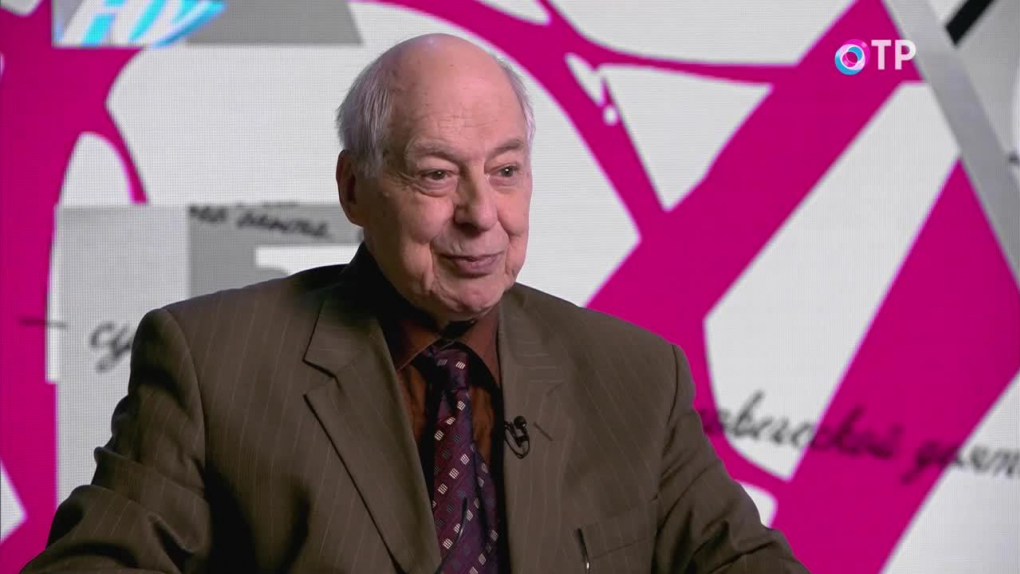Евгений Солонович: Непереводимых поэтов нет, но есть непереводимые стихи
https://otr-online.ru/programmy/figura-rechi/evgeniy-solonovich-51188.html 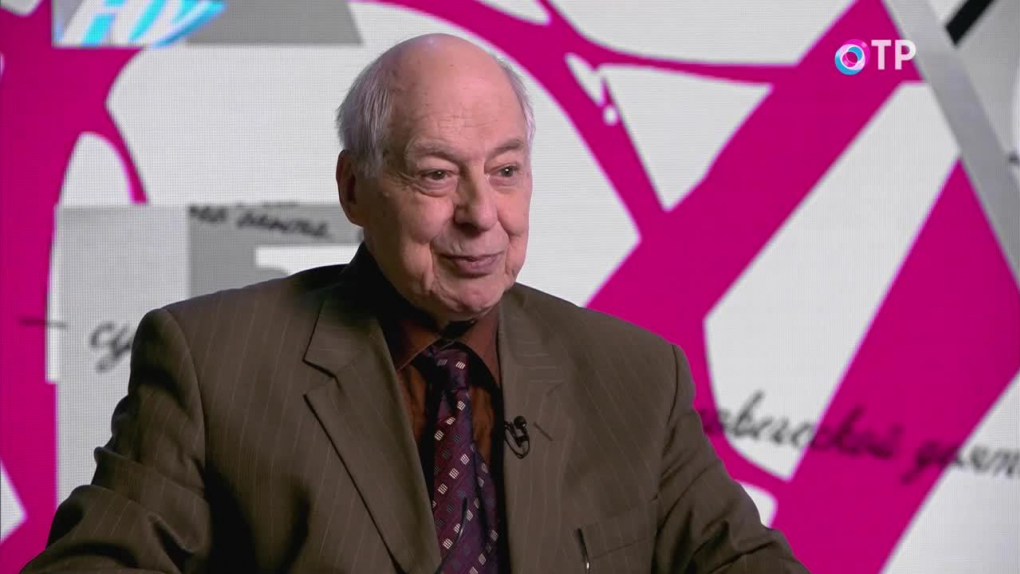
Николай Александров: В начале 1960-ых годов в издательстве «Художественная литература» должен был выходить сборник итальянских поэтов. Среди прочих авторов там был и итальянский поэт Умберто Саба. Его переводы делал Иосиф Бродский, но они так и не были опубликованы, точнее, были опубликованы гораздо позднее и под другим именем, не Бродского, а Николая Котрелева. Понятно, что это был факт самоотверженности со стороны Николая Котрелева. А редактор, который внимательно смотрел на переводы Иосифа Бродского, сегодня у нас в гостях, речь пойдет о поэзии вообще и итальянской поэзии в частности.
Сборник оригинальных стихотворений Евгения Солоновича «По эту сторону» вышел относительно недавно, и я говорю «оригинальных» и подчеркиваю это, поскольку Евгений Михайлович известен, наверное, в первую очередь, как переводчик с итальянского. И об этой книжке, и, разумеется, не только о русской поэзии, но и об итальянской, у нас сегодня пойдет речь с Евгением Михайловичем Солоновичем, он сегодня у нас в гостях. Евгений Михайлович, здравствуйте!
Евгений Михайлович, что для вас важно в переводе, поскольку сейчас идут такие довольно пространные дискуссии по поводу того, что, собственно, такое перевод, что он должен в первую очередь отражать или на чем делать ударение, ставить акцент – точность, выражение образов, попытка найти адекватный образ, ритм. Можно ли отказаться от предложенного авторского ритма? Некоторые переводчики действительно от этого отказываются, когда перед нами существует не подстрочный перевод, а, скорее, образ стихотворения, адекватное выражение которого подыскивается на русском языке. Я могу привести в пример одну из книг, Мария Степанова «За Стиви Смит», это, с одной стороны, не перевод Стиви Смит, но, с другой стороны, это и перевод. Вот для вас, как вы смотрите на этот процесс?
Евгений Солонович: Вы знаете, на первую часть своих вопросов вы сами ответили сразу. Я стараюсь отразить все особенности, естественно, оригинала.
Прежде всего – выбор оригинала. Я считаю, что непереводимых поэтов нет, но есть непереводимые стихи. Действительно, есть непереводимые стихи, вот не дается перевод – и все. Но от перевода таких стихотворений я, естественно, отказываюсь.
Была такая переводчица и поэтесса итальянская, Маргарита Гуидаччи, которая много переводила. Переводила, кажется, если я не путаю, с английского. И в одном из интервью ее спросили: «А как вы выбираете стихи для перевода?». И она замечательно ответила, я этой формулой часто пользуюсь, когда меня спрашивают, чем я руководствуюсь, она ответила: «Я не перевожу стихов, которые не хотят быть переведенными мною». Вот я не перевожу стихов, которые не хотят быть переведенными мной, и все переводы моих стихотворений – это все стихи, которые хотели, чтобы их перевел именно я. Это, может быть, нескромно звучит, но, тем не менее, это так.
И конечно, вы упомянули Машу Степанову, чья книжка «Памяти памяти» – ее проза – переведена, а книга ее стихов переведена одной из моих итальянских переводчиц, Клаудиа Скандура. Она переведена. И как я говорил, переводят не только с языка одного на другой язык, но и с одного поэтического языка на другой поэтический язык. Поэтому, конечно, в переводах на итальянский поэтический язык, к сожалению, отсутствует рифма, часто отсутствует и метрика оригинала, но, тем не менее, эти переводы все-таки дают представление о Марии Степановой как о поэтессе.
Николай Александров: Евгений Михайлович, а от ординарного, канонического стиха со строгим ритмом, рифмой, современная итальянская поэзия отказалась?
Евгений Солонович: К сожалению, да. Но, кстати, из трех моих переводчиц, которые готовят сейчас книгу моих стихотворений избранных в Италии, одна старается, там, где это позволяют условия, рифмовать. Но не так регулярно, как рифмуем мы, как рифмую я.
Одно время, когда у нас начали переводить современных итальянских поэтов (и не только итальянских – западных, зарубежных поэтов), то некоторые переводчики рифмовали верлибры, против чего я категорически возражаю, потому что перевод должен отражать и эту часть, и эту сторону оригинала. Так что в своих стихах, в своих переводах я стараюсь соблюдать все особенности оригинала. Я могу вам, если позволите…
Николай Александров: Да, конечно.
Евгений Солонович: Начнем с этого. Я сразу вам прочту два стихотворения.
Зло за свою держалось непреложность:
то вдруг ручей, задушенный до хрипа,
то выброшенная на берег рыба,
то мертвый лист, то загнанная лошадь.
Добра не знал я, не считая чуда,
являемого как бы ненароком
то в сонной статуе, то в облаке далеком,
то в птице, звавшей улететь отсюда.
(Эудженио Монтале, перевод Евгения Солоновича)
Вот такое стихотворение, где и ритм и рифма соответствуют этим особенностям оригинала.
С Джованни Джудиче я познакомился, когда он был уже довольно известным поэтом, и познакомился я с ним в Москве, он работал у Оливетти. И была выставка Оливетти в Сокольниках, он приехал, я был с ним знаком, поэтому я ходил на эту выставку, пользовался возможностью (они бар даже с собой привезли!) выпить итальянского кофе. Я ходил туда каждый день.
Я был знаком с его стихами, но, переводя других итальянских поэтов, я не переводил его, он меня не трогал, так бывает, естественно. Его стихи его не просили, чтобы я их перевел. Надо сказать, что он терпеливо относился к этому, я чувствовал, что он, конечно, ревнует, обижается на меня. И так продолжалось до тех пор, пока однажды вдруг (он мне присылал свои книжки) я не наткнулся на стихотворение, которое захотело, чтобы я его перевел. И дальше я уже начал его переводить.
Интересно то, что он с подстрочника (у него была очень близкая знакомая, русистка, которая сделала ему подстрочник «Евгения Онегина») перевел «Евгения Онегина».
Николай Александров: В рифму?
Евгений Солонович: Нет. Но часто подрифмовывая. Там, единственный, на мой взгляд, недостаток был, что он чуть-чуть перепедалировал иронию, ироническую интонацию, но, тем не менее, его перевод на итальянский язык я считаю лучшим. Итальянские русисты очень ревностно, ревниво относились к нему, поскольку он не из той команды. Они предпочитали другие переводы, прямо с языка. Но, тем не менее, его перевод, действительно, лучший из существующих (а их много).
И вот это его стихотворение, которое я сейчас прочитаю, оно интересно для меня еще и тем, что я знаю, кого он имеет в виду под героиней этого стихотворения (был знаком), и это как раз автор подстрочника «Евгения Онегина» для него.
Сейчас я это стихотворение прочту, я прочту строфу по-итальянски, чтобы вы могли сравнить, возвращаясь к разговору, о чем я думаю, переводя, какие особенности оригинала я передаю, какие – нет. Вот, я читаю:
Selva piccola autunnale
E corona a un rosso sole
Assaporo il tuo sapore
Madremare con più sale
Alle dita il tuo tepore
Liscio sguiscia umida sera
Mio respiro è il tuo odore
Lingua tacita e segreta
(Джованни Джудичи «En honneur de»)
Прочел две строфы вместо одной, и вот послушайте, как это звучит по-итальянски.
Николай Александров: По-русски.
Евгений Солонович: Да, простите, по-русски.
Роща в солнечных накрапах
Лист осенней карусели
Сладок мне твой горький запах
Запах моря запах соли
Согреваю пальцы щелком
Ниспадающим на плечи
И не понимаю толком
Бессловесной тайной речи
Все мои тревоги хрупки
И сомнения и ревность
Груди - белые голубки -
Их уносят в неизвестность
Как луна твой торс пшеничный
Между нами нет ни щелки
Я с тобою ты со мною
Вроде нитки и иголки
Хоть минутку хоть одну бы
Дать еще продлиться чуду
Эти яростные губы
Не забуду не забуду
Потеряться раствориться
В золотой купели тела
Быть собою стать тобою
Словно перевоплотиться
В чистоте твоей алтарной
Под твоим жемчужным сводом
Где с молитвой благодарной
Сердцем сердце слышу рядом
В глубине твоих потемок
В тайной бухте на приколе
Чувствовать тебя на память
По твоей горчащей соли
(Джованни Джудичи «En honneur de», перевод Евгения Солоновича)
Вот такое стихотворение. Когда я его перевел, моя (ныне покойная) жена сказала: «Ты знаешь, так перевести это стихотворение мог только влюбленный человек». И она была права, да, она была права.
Это стихотворение я часто читаю на публике, и обязательно с иллюстрацией оригинала, чтобы показать, насколько я вжился в это стихотворение, насколько я был влюблен.
Николай Александров: Евгений Михайлович, скажите, пожалуйста, есть ли у вас среди переводчиков, в частности, итальянской поэзии, может быть, не только поэзии, какие-то любимые переводчики? А может, среди них были те, на которых вы ориентировались? Были ли у вас учителя в этой школе перевода?
Евгений Солонович: У меня были учителя. Своими учителями я считаю Илью Николаевича Голенищева-Кутузова, который привлек меня к переводам Данте. И я вместе с ним переводил лирику Данте. И еще я считаю своим учителем Сергея Васильевича Шервинского, ученика Брюсова и участника, вместе Броюсовым, его антологии армянской поэзии. С ним я познакомился как с внешним редактором одной из переводных итальянских книг, которая выходила в издательстве «Художественная литература». И уже мы с ним дружили, и я многому у него научился.
Николай Александров: А если говорить о любимых переводчиках?
Евгений Солонович: О любимых переводчиках. Я вам сейчас назову неожиданное совершенно для вас имя, я назову вам Заболоцкого. Заболоцкий в 1957 году с группой советских поэтов, состоявшей из десяти человек, был приглашен в Италию на дискуссию о современной поэзии. Но дискуссии особенной не было, потому что это был разговор, скорее, глухонемых, потому что итальянская сторона была представлена крупными итальянскими поэтами. Для Заболоцкого это была первая и последняя после лагеря поездка в Италию. Когда эта группа вернулась, а в ней еще были Твардовский, Мартынов, Слуцкий.
И на следующий год должен был состояться ответный визит итальянский поэтов, и решено было к их приезду выпустить маленькую книжечку итальянской поэзии в переводах на русских язык. (И я уже тогда переводил с итальянского, я не помню, наверное, я еще не печатался, но переводы у меня были). Эту маленькую книжку готовил, составляя ее из итальянской поэзии или из итальянских поэтов, консультант иностранной комиссии при Союзе писателей, консультант по Италии Георг Самсонович Брейдбурд. Он предложил мне сделать подстрочники. Я сказал: «Вы знаете, у меня есть просто готовые переводы».
Один из готовых переводов, он, это был перевод стихотворения Умберто Саба. Он дал, посчитав, что созвучны, в какой-то степени, Умберто Саба, триестинский поэт, Триест на границе Европы восточной и западной. Он предложил Николаю Алексеевичу Заболоцкому. Заболоцкий прочитал этот перевод и сказал: «Это, извините, не подстрочник, это готовый перевод, я не могу его использовать как подстрочник». И в дальнейшем мне было предложено сделать подстрочник для Заболоцкого. И я сделал подстрочник для него.
И в эту маленькую книжечку, в которой, кстати, впервые были опубликованы и мои переводы, в эту странную книжечку, странную, потому что там, рядом с крупными поэтами был, скажем, Джанни Родари. Вот такой странный был немножко состав. И Заболоцкий, пользуясь моим подстрочником (потом однажды, когда мы познакомились, он благодарил меня за подстрочник), перевел два стихотворения Умберто Саба. Одно из них, я даже помню его, уже сколько лет прошло с 1958 года, книжка вышла в 1958 году, я даже помню начало. Это Умберто Саба «Три улицы»:
Ладзаретто Веккио в Триесте –
Улица печалей и обид.
Все дома в убогом этом месте
Сходны с богадельнями на вид.
Скучно здесь: ни шума, ни веселья,
Только море плещет вдалеке.
Загрустив, как в зеркале, досель я
Отражаюсь в этом уголке.
И так далее. Перевод, который я считаю, с самого начала, с тех пор, как я с ним познакомился, я считаю его, может быть, лучшим переводом современной итальянской поэзии (из современной итальянской поэзии) на русский язык.
В какой степени, в какой можно ориентироваться на Заболоцкого, как на переводчика с итальянского, трудно сказать. Но, во всяком случае, этот перевод всегда как-то мне напоминает, что есть недостижимые какие-то вершины, которых хочешь-не хочешь, а будь добр, постарайся достигнуть.
Николай Александров: Евгений Михайлович, в заключение нашей беседы, можете ли вы назвать несколько имен итальянских поэтов, которые открывают нам итальянскую лирику последнего времени. Потому что понятно, что Данте, Петрарка, может быть, даже Леопарди, в большей степени известны, а вот современная итальянская поэзия?
Евгений Солонович: Современная итальянская поэзия действительно известна не очень хорошо, но, прежде всего, естественно, называешь двух нобелевских лауреатов, поэтов, классиков XX века – Эудженио Монтале и Сальваторе Квазимодо.
Если позволите, я вам прочитаю одно стихотворение Сальваторе Квазимодо с небольшим комментарием. Оно называется «Некоему доносчику». Оно интересно тем, что выбрало меня, как своего переводчика, когда я составлял книжку Квазимодо для издательства «Молодая гвардия». Оно выбрало меня. По-итальянски оно называется «Parole a una spia» – «Слова, обращенные к шпиону». Я прочту это стихотворение, оно недлинное, для того, чтобы вы поняли, почему оно называется «Некоему доносчику». Я потом это прокомментирую. И я это стихотворение сейчас вам с удовольствием прочитаю.
В моем городе есть доносчик, он пишет стихи о любви.
Его ноги переступают вдоль витрин, тротуаров, надежд.
В былые времена ты шаркал по лицам убитых тобою,
Тех, кого пригвождали к стене по твоему слову
Тайному и учтивому, достойному манускриптов первых стихотворцев.
Доносчики не смеют писать стихи, ты это знаешь,
И пить за здоровье друзей, и взывать к чьему-либо сердцу.
Земля стремительна, нет у тебя корней
Мне известно имя твое, с севера ты или с юга.
Ты боишься лишиться звания человека,
Но это было предрешено, как растоптанное знамя
Или лошадь с распоротым брюхом.
Ты пишешь стихи о любви, говоришь о мечтах – врагах боли.
Э, нет, подземные силы, вы или кто там еще
В судный день тень доносчика оставьте
Болтаться в путах ожившего паука.
Почему это стихотворение выбрало меня как переводчика? Потому что, прочитав его, я вспомнил, как на своих коллег по Парнасу некоторые писали доносы, и чем это кончалось, мы с вами прекрасно знаем. Поэтому я считал обязательным для себя вот это стихотворение перевести, и назвать его не «Некоему шпиону», потому что «шпион» по-русски это, я не знаю, шпион НАТО или еще кого-нибудь. А здесь как раз речь идет о доносчике, который писал, позволял себе писать стихи о любви. Это, так сказать, не самое известное стихотворение Квазимодо, но, тем не менее, мне хотелось его прочитать и объяснить, почему я считал для себя нужным, необходимым перевести его и познакомить с ним нашего читателя.
Николай Александров: Евгений Михайлович, мне остается только пожелать, что бы вы не переставали выпускать как оригинальные стихи, так и новые переводы. Спасибо вам огромное за беседу, до свидания!
Евгений Солонович: Спасибо вам большое! Я очень признателен вам за приглашение, за возможность выступить перед той огромной аудиторией, которая есть у нашего телевидения. Мне остается только спросить, когда это пойдет в эфир, для того, чтобы об этом оповестить болельщиков своих и болельщиц.
Николай Александров: Спасибо вам огромное, Евгений Михайлович!
Евгений Солонович: Спасибо вам.
Николай Александров: Поскольку сегодняшняя программа была во многом посвящена итальянской литературе и поэзии, как классической, так и современной, конечно же, я не мог пройти мимо книжки, которая вышла относительно недавно – это знаменитая поэма Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим». Вышла она в новом переводе Романа Дубровкина.
Но «Освобожденный Иерусалим», который повествует о взятии Иерусалима крестоносцами, о первом крестовом походе и установлении первого христианского государства на святой земле, конечно же, читается достаточно трудно, и требует от читателя и внимания, и усердия, и определенных усилий. Но, во всяком случае, то, что это произведение Торквато Тассо вышло в новом переводе, можно только приветствовать, поскольку каждая эпоха требует своего языка, и языка перевода в частности.
И еще одна книга, которая отсылает нас к совсем уже неизвестной литературе, хотя многие авторы из этой страны, а речь идет об Исландии, были переведены на русский язык. И вот один из них, точнее, одна – Аудур Ава Олафсдоттир «Отель «Тишина»». Удивительный роман, не только по своему сюжету – главный герой решает свести счеты с жизнью, поскольку он во всем разочаровался, от него ушла жена, ребенок ведет вполне самостоятельную жизнь и так далее. Но он решает отправиться, как он думает, в последнее путешествие в страну, где только что закончилась война. Почему-то берет с собой домашний инструмент – дрель и некоторые другие вещи. Понятно, что в этой стране этот багаж ему чрезвычайно пригодится. Однако главное, на что обращает внимание эта книга – совершенно необыкновенная интонация, какой-то наивный и чистый взгляд на историю и на ужасы, которые присутствуют в современном мире, которые вовсе не угнетают читателя, а наоборот, рождают светлые чувства.
Всего доброго, до свидания.