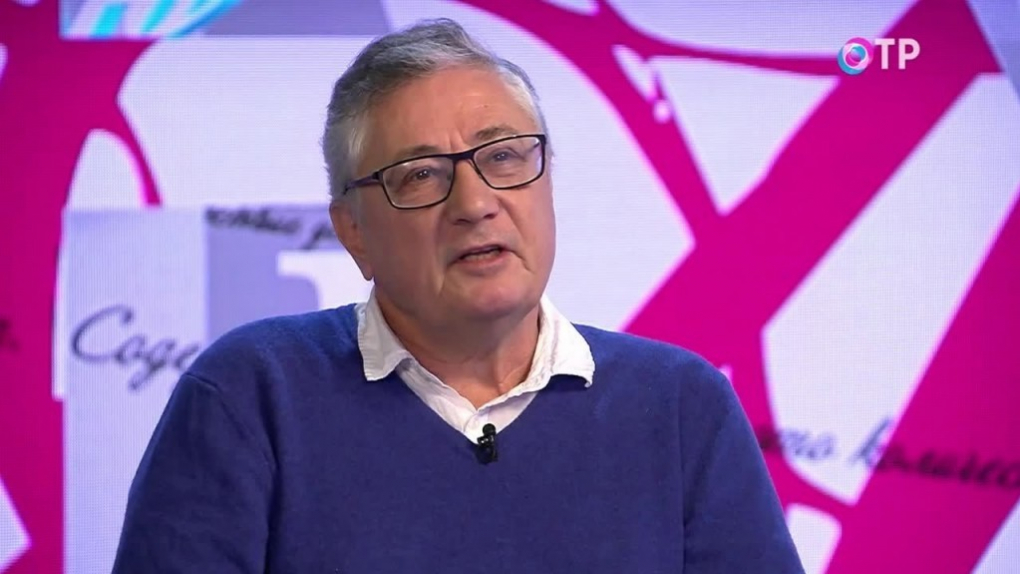Борис Фаликов: Для меня самым большим открытием было то, насколько сильно оккультные учения повлияли на искусство модернизма
https://otr-online.ru/programmy/figura-rechi/gost-programmy-religoved-boris-falikov-29033.html 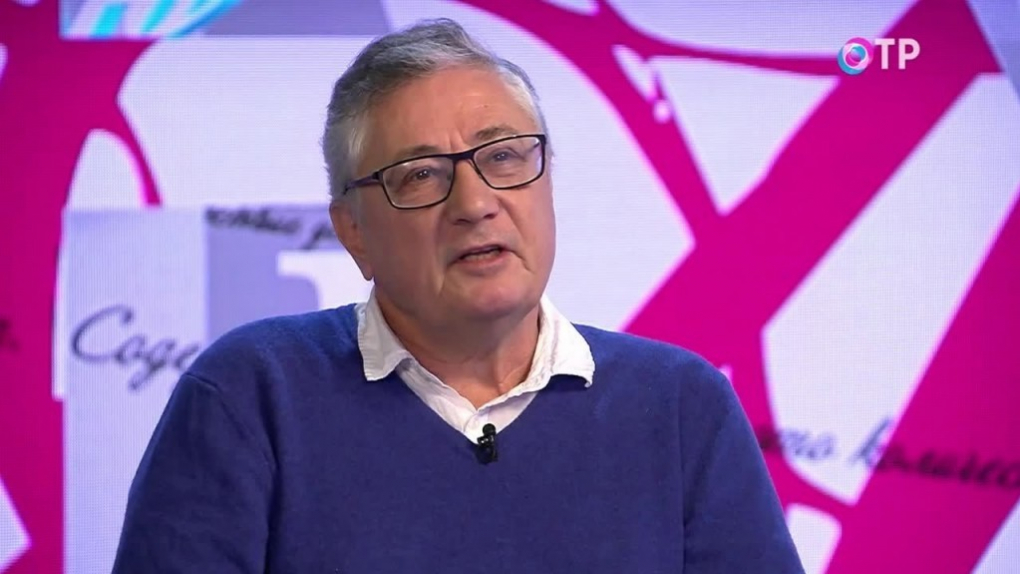
Николай Александров: Необыкновенный культурный подъем на рубеже XIX–XX столетий – не только в России, но и в Европе вообще – во многом был связан с интересом к мистическим учениям и оккультизму. Борис Фаликов выпустил в издательстве "Новое литературное обозрение" книгу, которая называется "Величина качества", где он пытается проследить воздействие оккультных учений и представителей оккультизма, таких как Елена Блаватская, Рудольф Штайнер или Георгий Гурджиев, на модернистское искусство. Борис Фаликов – гость нашей программы.
Боря, здравствуйте.
Борис Фаликов: Добрый день, Николай.
Н.А.: Я хотел бы, во-первых, поздравить вас с выходом книги "Величина качества. Оккультизм и восточные религии в русской культуре XX века".
Б.Ф.: Спасибо.
Н.А.: Собственно об этом сегодня и пойдет речь, поскольку это одна из проблем, которые волновали российское общество (и не только российское, кстати говоря) на протяжении довольно многого времени и которые, в общем, занимают в частности и нашу программу, которая связана с языком, смыслом, поскольку, пожалуй, именно в начале XX века вот эта проблема расширения смысла, изменения всего, языка в частности, причем во многих смыслах этого слова, языка искусства, она была одной из главных. Вот давайте поговорим о том, каким образом переживался этот кризис научного знания и перехода к знанию оккультному и мистическому – все то, что науке вроде бы противоречит. Как это собственно появлялось, в частности в русской культуре?
Б.Ф.: Ну, вы знаете, одним из каналов распространения оккультных знаний в России была теософия и потом антропософия, которая собственно откололась от теософии.
Н.А.: То есть учения, которые в нашем сознании связаны с Еленой Блаватской и Рудольфом Штайнером?
Б.Ф.: Совершенно верно, совершенно верно. То, что теософия стала здесь популярной, конечно, во многом объясняется русскими корнями самой Елены Петровны Блаватской, а также тем, что на самом деле Православная церковь чинила некие препятствия теософии. И Теософское общество было зарегистрировано достаточно поздно в России. До этого это все шло как бы немножко так через какие-то личные связи – ее родственники, оставшиеся в России, Желиховская и другие. А Рудольф Штайнер был буквально магнитом, как вы хорошо знаете, вообще для творческой интеллигенции европейской. Ну а русская интеллигенция той поры была частью ее.
Н.А.: И, наверное, нужно сказать, что, с точки зрения теософов и антропософ, человеческое существо не ограничивается только его материальной оболочкой, а человек живет как бы одновременно во многих измерениях; что существует, помимо мира материально, эмоциональной, еще и интуитивный мир, духовный. И таким образом… И там тоже существует тело или проекция материального тела – астральное тело.
Б.Ф.: Совершенно верно.
Н.А.: И вот попытка проникнуть в эти духовные глубины и лежит в основе этих учений-медитаций, да?
Б.Ф.: Конечно, конечно. Это очень важно. Это одна из причин, почему это стало так популярно среди писателей, поэтов и художников, композиторов (Скрябин). Совершенно верно. Потому что, кроме мира видимого, материального, есть еще многослойный невидимый мир. Там и эфирное тело присутствует, и астральное тело присутствует, и духовное тело. Там семичастная структура у теософов.
И что тут важно еще подчеркнуть? Что когда теософ или творческий человек, который подхватил эти методы, путешествует в этих мирах, то это не только психологическое измерение, не только внутри собственной психики он путешествует, но оккультисты говорили, что там есть и онтологическое, то есть они как бы существуют. И это очень важно, потому что инструмент для путешествия в этих, так сказать, мирах оккультисты называли "имагинация" (воображение). Но опять-таки надо учитывать, что имагинация предполагает онтологический характер вот этих миров, то есть там пребывает.
А это же очень важно для творческого человека – имагинация, воображение. Тот факт, что воображение – это не пустые фантазии, а нечто такое серьезное, фундаментальное, что может менять и мир, потому что, если ты там будешь пребывать и что-то в этих состояниях создавать, то это повлияет и на мир. Как оккультисты говорят, "приблизиться", вот это высшее сверхсознание человеческое мир изменится. И художники таким образом (ну, в широком смысле слова художники) смогут участвовать в этом преображении мира. И Штайнер особенно это подчеркивал. Поэтому его и окружали такие крупные фигуры, как наш Андрей Белый, Максимилиан Волошин, немцы, французы. Им это страшно понравилось – что они с помощью искусства смогут преображать реальность. Теургия – вот такое греческое словечко, очень любимое Вячеславом Ивановым.
Н.А.: Да. Ремесленник и творец одновременно, да?
Б.Ф.: Да.
Н.А.: Потому что теург – это же в общем, в принципе ремесленник, но плюс к тому это человек, который создает новые миры. В частности, в вашей книге вы довольно много об этом пишете. Это одна из самых любопытных вещей. Помимо того, что герои этой книги – довольно загадочные личности, о которых вообще мало кто знает, вроде той же самой Елены Петровны Блаватской… Хотя, наверное, многие представляют себе ее знаменитый портрет. Это такая московская барыня с совершенно необыкновенными, огромными глазами.
Б.Ф.: Да-да-да.
Н.А.: Здесь и Георгий Гурджиев, и Алистер Кроули. Это все в общем люди, биографии которых – при том, что о них довольно часто говорят и их имена упоминают, но биографии их довольно смутно представляются многими. И известно в общем, действительно, о них довольно немного.
Б.Ф.: Да, совершенно верно.
Н.А.: Но, помимо этого, еще герои этой книги – люди литературы и искусства. Если с этой точки зрения посмотреть, каким образом оккультизм был связан с тем, чем искусство и литература в первую очередь занимаются – словом, звуком, цветом? Каким образом эти идеи изменяли мировоззрение художников и каким, в свою очередь, художественным концепциям приводили?
Б.Ф.: Вы знаете, для меня, наверное, вот лично для меня самым большим открытием было то, насколько вот эти оккультные учения и восточные различные учения – индуизм, буддизм, правда, в оккультной интерпретации (оккультизм – это такой мостик между Востоком и Западом), насколько они, так сказать, повлияли на искусство модернизма. Почему меня это удивило? Я вообще историк религии, востоковед. И когда я писал о проникновении индуизма на Запад – ну, это все достаточно понятно мне было, все это объяснялось.
Н.А.: Боря, давайте мы сразу, поскольку мы произносим слово "оккультизм"… Вы, кстати говоря, в своей книжке даете одно из возможных определений, да?
Б.Ф.: Ну да.
Н.А.: Что в отличие от собственно религиозного понимания, оккультное понимание не затрагивает идей спасения, да?
Б.Ф.: В общем, тут немножко посложнее. Понимаете, оккультизм… И тут это не только мое мнение, но и голландская школа, мои коллеги в Голландии, в Амстердаме, которые этим занимаются, они определяют, и я вслед за ними определяю оккультизм как секуляризацию эзотерической традиции. И, так сказать, секуляризация привела к тому…
Н.А.: Секуляризация – то есть?
Б.Ф.: Обмирщение.
Н.А.: Да, обмирщение. Вывод за пределы культа, да?
Б.Ф.: Да.
Н.А.: Учение за пределами культа.
Б.Ф.: За пределами религии. И, собственно говоря, это значит, таким образом, попытка синтеза с наукой, потому что… Понимаете, тут такая штука. Обычно, когда имеют в виду оккультизм, говорят: "Ну что, это все эти бредни, оккультные бредни" (даже такое устоявшееся выражение). Но на самом деле это попытка синтеза с наукой, вот этой эзотерической западной традицией, которая давняя, действительно давняя. И это неудовлетворение научным мировоззрением, но не отвержение науки. "Магия – это наука будущего", – как говорила Блаватская. Что она имела в виду? Она имела в виду, что науке надо отказаться от узкого позитивизма и открыться, открыть для себя духовные измерения всякие, астральные, которые собственно она предлагала.
Таким образом это и было подхвачено художниками (в широком смысле слова) европейскими, западными, русскими, российскими, потому что они же не собирались отказываться от науки. Их раздражал позитивизм, грубый материализм. Кандинский в своей знаменитой книге "О духовном искусстве" об этом говорит хорошо. Они хотели оставаться как бы на позиции такого научного знания, но дополнить его вот этими всякими духовными делами. Это очень важный момент. И именно этим объясняется, что они подхватили этот оккультизм. Понимаете? Это такой мостик между наукой и духовным. Кандинский, повторяю, в своей книге (она достаточно тоненькая, переведена на русский язык, он ее по-немецки написал) об этом достаточно много говорит. И таким образом, мое удивление как бы рассеялось, когда я это понял, что даже собственно, почему именно оккультизм так важен.
Н.А.: Ну, важно еще, что наука конца XIX – начала XX века действительно как бы давала примеры, которые не умещались в рамках привычного, детерминистского знания.
Б.Ф.: Конечно, конечно.
Н.А.: Теория относительности Эйнштейна и вообще совершенно другое представление о строении атома, квантовая теория и так далее – все это, конечно, как будто выходило за рамки привычного научного знания как такового.
Б.Ф.: Да, совершенно верно. И тот же Кандинский недаром пишет, что вот эти субатомные всякие исследования, с которыми он познакомился, они как бы указали ему на то, что мир не есть тупая материя. И как бы камень может взлететь – почему бы и нет? Это не только законы тяготения. И вот это его подвигло, вот это. Так что вы абсолютно правы, да.
Н.А.: Боря, таким образом, в этих своих поисках, с одной стороны, соединение духовного с научным, а с другой стороны, это же вообще тот круг идей, который, кстати, потом будет волновать и ученых. Вот эта теория поля, которая должна объединить все знание. Но мы видим, в частности вы в этой книге говорите, что ведь это размышления о синтезе, что то, что существовало раньше по отдельности – звук, слово, литература, музыка, искусство – как будто может поддаваться синтезу.
Б.Ф.: Да, да. И недаром так популярно в этих кругах было вот то, чем Скрябин обладал. Правда, мне попадались книжки, говорящие о том, что на самом деле у него не было цветного слуха. Синестезия, по-моему, эта штука называлась. Вот вам пример. То есть музыка, окрашенная в различные краски. Кандинский обладал, кстати, реально этим же свойством – для него краски звучали. И он об этом довольно много говорил. Причем с детства он обладал этим свойством. Да, вот даже на таком уровне восприятия как бы попытка синтеза, вы правы совершенно, такое синтетическое искусство. Скажем, опера, которую Фома Гартман написал, "Желтый звук", а Кандинский сделал либретто и оформил (к сожалению, Первая мировая помешала постановке), – тоже вот такая попытка синтетического искусства. Да, да, безусловно.
Н.А.: Я так понимаю, что таким образом сами пределы искусства расширяются, да? Звук может соотноситься с цветом. Но также со звуком и цветом может соотноситься человеческий жест – то, что волновало в частности Андрея Белого.
Б.Ф.: Да-да-да.
Н.А.: И помимо того, что это влияет на искусство и на слово, можно сказать, что поиски нового слова, которые мы находим у модернистов, у футуристов, тоже связаны с вот этим совершенно другим взглядом на мир, другим представлением на Вселенную.
Б.Ф.: Безусловно, да. И для меня в этом смысле было страшно интересно почитать теоретические работы одного совершенно недооцененного у нас в России автора. Я имею в виду Алексея Крученых, который в статьях своих о зауми… К нему так немножко относились (ну, вы как литературовед знаете хорошо), как к некоему клоуну такому, шуту. Очень глубокие вещи проговариваются. Он проговаривает вещи, которые после него такие высоколобые немцы, как Гуго Балл, дадаисты, когда они создали дадаизм… Это, собственно говоря, в этом же направлении шла работа, то есть изменение отношения к слову. Слово приобретало магическое измерение, так сказать. И Алексей Крученых раньше об этом рассуждал, в 1911–1912 году, когда его эти работы были.
Ну и потом, знаменитая затея "Победы над Солнцем", которую осуществили кубофутиристы, – это же был первый эсхатологический перформанс. Они же верили. Вот для меня это было просто открытие. Они верили в то, что "Победа над Солнцем" преобразит сознание, преобразит мир с помощью зауми и с помощью вот этой невероятной живописи Малевича, который вообще считал, что… Весь его супрематизм, собственно говоря, родился из этой оперы – о чем он Матюшину и писал, композитору. Вот тоже пример такого совершенно синтетического, синтетической вещи, которая преследовала, безусловно, такие цели – изменение сознания и мира. Это было связано с абсолютно оккультной такой идеей о четвертом измерении, главным пропагандистом которой был Петр Демьянович Успенский, который впоследствии попал под чары Гурджиев. Но начинал он с этой идеи четвертого измерения.
Н.А.: Ну, когда мы сегодня говорим "четвертое измерение", как ни странно, это мало кого удивляет, потому что в нашем сознании четвертое измерение – время. Мы добавляем к оси координат его – и вот у нас появляется четвертое измерение. Но для Успенского это действительно пространственная фигура, да? Каким образом выйти за пределы трехмерного пространства, да? Что с этим можно сделать?
Б.Ф.: Да, совершенно верно. Вот это четвертое измерение… Он подхватил эту идею у англичанина, перевел его труды. Но для него-то на самом деле было вот что важно. Он очень сильно развил этого английского автора, который так более в сторону науки склонялся. Он не случайно свою книжку главную, которая сейчас тоже перепечатывается, назвал "Tertium Organum", то есть это третий "Органон" – вслед за Аристотелем, вслед за Фрэнсисом Бэконом. И для него было главное то, что возможна новая логика. Потому что аристотельская логика – это исключение третьего, да? Бэкон это подхватывает на экспериментальном уровне…
Н.А.: Кстати, добавляет временную составляющую, да?
Б.Ф.: Ну да. А Успенский говорит: "Так вот, на самом деле мы сейчас должны жить по другой логике. Тогда А – это Б, и А – это Б". И это похоже все на самом деле на индийские идеи, потому что в Индии, в индуизме и буддизме была разработана вот эта логика, альтернатива логике Аристотеля. И вот он говорит: "Когда мы дойдем… Поэтому наука, – он говорил, – и должна объединиться с мистическим сознанием". Потому что для мистика это совершенно нормально, когда А – это А, и А – это Б, одновременно. И таким образом, произойдет синтез между научным мышлением и мистическим мышлением. "Упанишады" и, условно говоря, квантовая физика – это, так скажем, две стороны одной метали. И, кстати, вот эти его идеи, достаточно безумные для его времени, как казалось (хотя их кубофутуристы подхватили), они потом, вы знаете, нашли свое развитие в серьезных рассуждениях всяких очень серьезных физиков, которые увлекались Востоком. Оппенхаймер увлекался всем этим делом, и другие. Вот эта удивительная индийская логика неискалеченного третьего, она была подхвачена.
Н.А.: Ну да, волна и частицы, которые могут быть одновременно и тем, и другим.
Б.Ф.: И тем, и другим. Все вот это пожалуйста. То есть интуиция довольно мощной оказалась.
Н.А.: Действительно, таким образом, слово расширяет свои границы – и становится очевидным, почему слово может быть магическим заклинанием, почему он несет магическую функцию в себе. Слово соединяется со звуком и с цветом. Точнее, звук и цвет оказываются соприродными, да? И поэтому можно сопоставлять совершенно разные явления. И поэтому звук может быть желтым. Это же влияет, оказывается, и на театральные практики?
Б.Ф.: Да.
Н.А.: И театр становится таким магическим действием, да? Ведь магический театр в вашей книге в первую очередь связан с Гурджиевым, да? Но вот его идеи затем воплотились в театральном искусстве?
Б.Ф.: Вы знаете, и да, и нет, потому что… Вот один как бы из основных западных режиссеров театральных, находившихся под влиянием Гурджиева… Я имею в виду Питера Брука. Он, собственно, был учеником не самого Гурджиева, он его не застал, а его ученицы Джейн Хип – такая американская литературная дама. И еще Жанна Зальцма́н (ее на французский манер так ударяют), которая до 100 лет дожила в Париже. Он с ними сотрудничал. И через него вот это гурджиевское влияние было им воспринято. Но что любопытно? Он понимал театр по-другому, чем Гурджиев. У Гурджиева была идея вот этого магического театра…
Н.А.: Давайте мы буквально два слова скажем, что Георгий Гурджиев, который появился в частности в России неизвестно откуда, неизвестно откуда он взялся, привлек внимание очень многих, в частности Петра Успенского. И он, собственно, и говорил, что человек тоже, с одной стороны, может эволюционировать, но главное – ему проснуться для того, чтобы понять свою сущность. И вот этот странный театр Георгия Гурджиева – это и есть своего рода медитации, которые позволяют человеку проснуться, то есть ощутить свое истинное существо.
Б.Ф.: Совершенно верно.
Н.А.: Затем он оказался во Франции. Каким образом, правда, неизвестно. Через Стамбул? И там, в Фонтенбло, возник целый Гурджиевский центр. Так вот, на этом, собственно говоря, мы и остановились. Вот этот магический театр Гурджиева – это действительно магия, в его представлении, это действительно изменение человека?
Б.Ф.: Конечно, конечно. И это то, что французы называют mouvement, вот эти движения, и movements по-английски – это и есть его театр. А что это такое? Это попытка сломать машину, потому что на самом деле человек – это машина, которая запрограммирована (воспользуюсь современным уже словом) на какие-то определенные вещи, детерминирована предельно. И чтобы освободиться, надо эту машину сломать. А чтобы ее сломать, ее надо просто разбалансировать предельно. Этот магический театр, эти движения и были направлены на то, чтобы разбалансировать все это дело.
Н.А.: Да, оккультизм таким образом вернулся вновь в пределы культа, как ни странно, да?
Б.Ф.: Ну да.
Н.А.: Создает, может создавать и свой культ.
Б.Ф.: Конечно, он верный ученик Гурджиева. Хотя он утверждает, что он Гурджиева никогда не читал, а узнал о нем только очень поздно. Ну, не знаю, может, лукавит. А может, и нет. Шел каким-то, так сказать, параллельным путем.
Н.А.: Боря, огромное вам спасибо. Я всех заинтересованных лиц отсылаю в частности и к вашей книге. Я понимаю, что на самом деле мы не столько разрешили какие-то проблемы, сколько открыли тему для разговора. Конечно же, тема настолько обширная, что говорить о ней можно бесконечно. Спасибо.
Б.Ф.: Большое и вам спасибо.