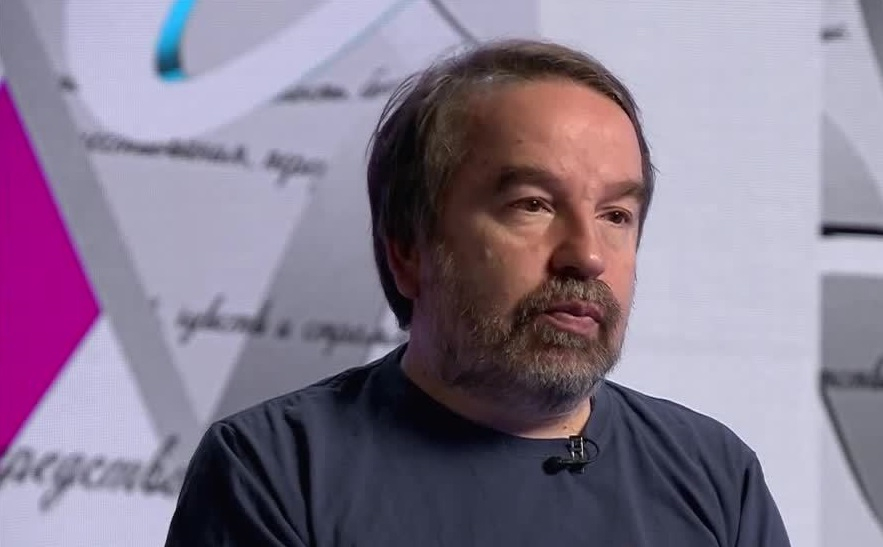Олег Лекманов: Венедикт Ерофеев был слишком трезвым человеком, чтобы быть юродивым
https://otr-online.ru/programmy/figura-rechi/oleg-lekmanov-35996.html 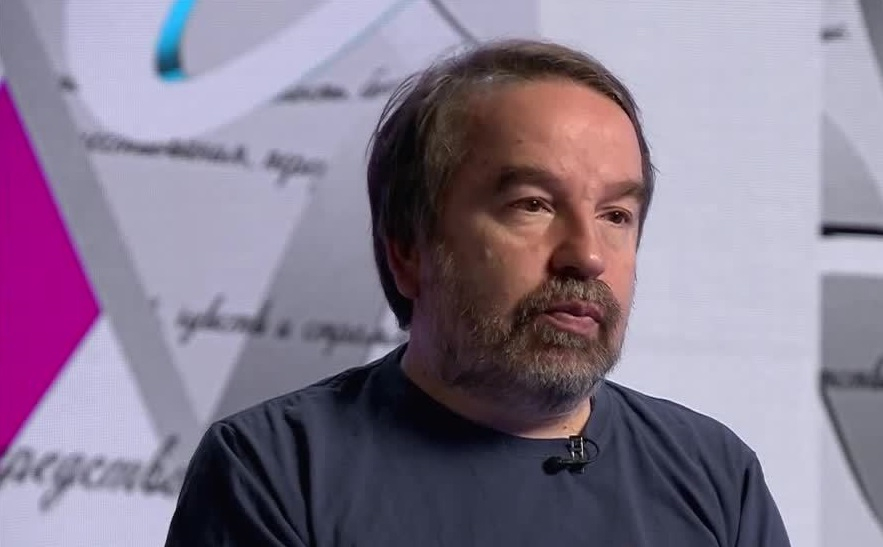
Николай Александров: Сегодня вы увидите продолжение разговора с Олегом Лекмановым. И я напомню, что тема нашей беседы – «Венедикт Ерофеев. Биографический текст».
Олег, здравствуйте.
Олег Лекманов: Здравствуйте, Коля.
Николай Александров: О двух вещах хотелось поговорить применительно к Венедикту Ерофееву. Первое (мы чуть-чуть уже затронули эту проблему) – это круг общения Ерофеева. Насколько он важен вообще для его понимания? Потому что вы упомянули Муравьева. Можно вспомнить и проживание Венедикта Ерофеева в Абрамцево, вообще академическая филологическая диссидентская среда.
Олег Лекманов: Я бы сказал, что в его жизни было несколько… Он был человек, насколько я понимаю, чрезвычайно с иерархическим сознанием. У него были такие круги людей, которые в его сознании, как я думаю, не очень пересекались. Хотя на его днях рождения сходились очень-очень разные люди. И когда мы начали уже писать эту книжку и просто… Как пишется любая биография? Особенно человека, который недавно умер, когда живы современники. Составляются списки людей, с которыми хорошо было бы поговорить. И меня поразила широта охвата, какие разные люди так или иначе попадали в сферу общения Ерофеева. Конечно, большинство из них уже попали туда после того, как он написал «Москва – Петушки» в 1969/1970 году и стал звездой в узких кругах. Но все равно очень разные люди.
Например, Глеб Павловский. Человек из другой страты, из совершенно другого мира, который жил у его приятеля некоторое время, еще приехав из Одессы. И Ерофеева помнит. И вот мы с ним разговаривали. С другой стороны, Андрей Бильжо, знаменитый «Петрович», который просто был врачом в клинике. Он не был буквально лечащим врачом, но наблюдал Ерофеева и тоже о нем что-то рассказывает. То есть очень-очень разные люди. И круг общения был очень пестрым. А Ерофеев – он же как Блок, в этом смысле такой маниакальный человек, он записывал все время. Он пишет такие списочки. Какие грибы он собрал, предположим, и как списки грибов. Как мы все грибы собираем? Собираем, потом приходим, начинаем их чистить. А он приходил, выкладывал их и в записную книжку записывал: «8 подберезовиков». На самом деле по-своему очень увлекательное тоже такое чтение.
Так вот, возвращаясь к кругам общения, был один круг общения, одна группа людей, которые его окружали, видимо, это был главный круг – это как раз были его студенческие друзья, студенческая компания. Она была довольно большая. Действительно, там главным был Муравьев. Но там же был, между прочим (для меня довольно неожиданное имя, человек, с которым мы тоже поговорили) Борис Андреевич Успенский, очень большой филолог, который входил… Он был однокурсником Ерофеева. Там же был Владимир Скороденко. И там был Лев… такой прекрасный человек. То есть там были его люди, которые были его студенческими друзьями, и с ним на протяжении всей жизни, так или иначе потом теряя… То есть Успенский пропал из его орбиты, а потом вернулся. Успенский его познакомил с Лотманом, и тоже… Это тоже не легенды. С Лотманом они сидели, разговаривали и так далее. Это был один круг. И в этом кругу центральной фигурой был Муравьев. Потому что Муравьев был человек чрезвычайно уверенный в себе, говорящий безапелляционно, очень ярко, и они все там на него не то что смотрели снизу вверх. Я не думаю, что Ерофеев сначала смотрел, а потом он на Муравьева тоже повлиял. Но там некоторым центром был Муравьев. А потом, когда Ерофеев поступил во Владимирский пед, там вокруг него тоже образовался круг людей. Как раз некоторые из них стали персонажами «Москвы – Петушков». Это Вадим Тихонов, которому посвящены «Москва – Петушки», это Борис Сорокин, с которым тоже нам посчастливилось поговорить.
К этому кругу примыкавший замечательный поэт Ольга Седакова, который тоже была… Это был немножко другой круг. Там Седакова смещалась в сторону литературы. Но вообще это были люди, где Ерофеев отчасти занял место Муравьева, где он стал уже гуру, где он стал уже учить, где ему они смотрели в рот. И он повлиял довольно сильно на многих из них. Игорь Авдеев тоже в этом кругу был, герой, которого зовут Черноусый в «Москва – Петушки». И он очень многих… И тоже особый разговор, интересный, и хватит ли у нас на это времени говорить про отношения, всякие христианские искания.
Николай Александров: Это как раз еще одна вещь, которая очень важна – насколько религиозный аспект важен. Потому что в «Москве – Петушках» трудно понять без него.
Олег Лекманов: Он очень важен. Тут, как всегда с Ерофеевым, все очень запутанно. Во всяком случае, несколько из этих людей через Ерофеева просто пришли к вере. Он их просто приобщил. Его выгнали из Владимирского пединститута. Одной из причин, конечно, было, что он вообще… В провинции тогдашней вдруг появляется такой человек, приходящий в тапочках на лекции, что-то такое говорящий про Ницше и с преподавателем философии начинающий говорить об этом. Он выделялся. Конечно, его выкинули все равно. Но одна из конкретных причин – у него была Библия, которая лежала на тумбочке. Он ее давал читать. А в конце концов, когда пришла литкомиссия, он запустил этой Библией (тяжелой книжкой), и в конце концов убрали, выгнали оттуда, из педа. И там он играл такую же роль, гуру, в этой компании.
Кроме того, он был человеком очень сильно пьющим. Просто алкоголик.
Николай Александров: Олег, давайте сначала разберемся с религиозным аспектом.
Олег Лекманов: Просто был круг людей, которые… Как раз в Москве там менялись компании. Во многом это был просто круг его алкогольных интересов.
Николай Александров: Это, может быть, еще бытовые реалии, которые связаны просто с характером времени.
Олег Лекманов: Да. Абсолютно точно можно сказать, что Евангелие было главной книгой его жизни. Он читал, он думал, он стилизовал, он пытался писать такое… Иногда говорят «алкогольное Евангелие», как-то мне это не очень нравится. Но во всяком случае это текст, который очень сильно повлиял на него. Он, как известно, крестился поздно, крестился в католичество.
Николай Александров: Это очень важно. Потому что эти легенды, связанные с конфессиональностью…
Олег Лекманов: Я думаю и все говорят, что это очень большое влияние Владимира Муравьева, который был католиком. Причем, крестившись, потом в церковь не ходил. Это не было его обыкновением. Он не стал прихожанином никакой из церквей. Мы залезаем в такую область, в которой очень трудно что-либо говорить, но воспоминания есть очень разные про то, как в разные минуты он относился… к Христу он всегда относился с восторгом. Был ли он верующим человеком? У Ольги Александровны Седаковой есть… Она в Фейсбуке это написала, а мы это использовали потом. Что однажды к ней пришел Ерофеев, и она в очередной раз перечитывала о воскресении Лазаря. Она говорит: «Буквально сцена из «Преступления и наказания», только с другими акцентами». Она чуть ли не со слезами на глазах: «Смотри…» И она, как умеет Ольга Александровна, прочувственно это прочитала, и он говорит: «Ты веришь в это все?» Она говорит: «Конечно, верю». – «Знал, что ты сумасшедшая, но до такой степени…» Я думаю, что в разные минуты своей жизни он по-разному ощущал.
Николай Александров: Олег, но, с другой стороны, это же типичное поведение юродивого. Образ Венечки Ерофеева… вы упомянули, сказали «алкогольное Евангелие». А вот алкогольный юродивый – этот образ иногда как будто вырастает из поэмы.
Олег Лекманов: Если говорить о биографии, то в поэме, безусловно, этого много. Что касается биографии Ерофеева, я думаю, что все-таки это неточный образ. Иногда про это тоже говорят и пишут. Как раз то, с чего начинали – к разнице между персонажем и человеком. Он был слишком все-таки, по-моему… Чтобы быть юродивым, нужно очень много отрезать от себя, в том числе и связанного с культурой. Не значит, что юродивый бескультурный, но ты про это забываешь. Все растворяется в совершенно другом… Он никогда этого не делал. Он был слишком (простите, прозвучит смешно) трезвым человеком, для того чтобы быть юродивым. Я бы так сказал.
Николай Александров: Юродивый у нас ассоциируется с некоторой асоциальностью. Венедикт Ерофеев как будто бы это чувствует.
Олег Лекманов: Это и было. Что касается асоциальности, я бы сказал так. Он был человеком, который мне нравится. Это формула Муравьева. Поэтому я могу сказать, что она мне нравится. Он был человеком, который пробивался и старался все время пробиться к свободе. Я бы это так сказал. Мне кажется, мы уходим немножко, это не очень точно. А вот здесь, мне кажется, довольно точно. Он понимал, что внутренняя свобода – это не состояние, к которому ты пришел и в нем пребываешь, а это состояние, в котором постоянно нужно контролировать, есть оно в тебе или нет. И современники (и те, кто любил его, и те, кто не любил) это вспоминают. И этим, видимо, он всех больше всего поражал, что он был почти всегда свободен от условностей разного типа. И это действительно совершенно поражает. Например, самая удобная для иллюстрации история – это история про университет как раз.
Вот мальчик из провинции, получивший золотую медаль, приезжает учиться в университет на Филфак. Перед ним раскрываются не сверхблестящие, но замечательные перспективы москвича, филолога. И все, что он так любит – библиотека, чистота. Он, конечно, комфорт любил. И ему надоедает в какой-то момент. Ему кажется, что это ничего ему больше не дает. И он совершенно спокойно перестает это делать. Просто бросает, и все. И это в нем действительно было. Иногда людям, которые с ним общались, было очень тяжело, потому что он мог встать и выйти. Или он мог, например, позвонить родителям молодой девушки, в компании которой он выпивал накануне, и сказать: «Ой, а она не у вас? А то мы тут пили здесь». И дальше обида на всю жизнь могла быть. Потому что родители этой девушки потом ей высказали все. Для него это ничего не значило.
Кажется, в этом скорее что-то ницшеанское есть, чем христианское. В этом таком сложном сплаве. Из этого сложного слова… Конечно, мы можем объяснить. Но что-то в нем объяснить через…
Николай Александров: То есть это такое продолжение, как ни странно… Здесь уже адресую к вашим другим занятиям… Это, как ни странно, такое продолжение культуры начала века, как бы ни называли – Серебряным веком или модерном.
Олег Лекманов: Опять, Коль. Интересно с вами разговаривать, помимо прочего, потому что по такому пути тоже хочется пойти. И мы даже в какой-то момент пытались. Но тоже не получается. С одной стороны, конечно, это такая театрализованность поведения и такой Александр Добролюбов, и так далее, «Помолчим, брат». Но, понимаете, все-таки у тех ребят Серебряного века (опять же, я совершенно не даю этому никаких оценок, потому что кто мы такие чтобы все это оценивать? Мы со стороны смотрим) во многом это было умышленно, мне кажется, что это была некоторая стратегия, тактика поведения. Мы много про это читали, писали и так далее. У него это еще таким странным образом… Это кажется настолько естественным… Ему действительно хотелось выпивать… Хотелось выпить – и он выпивал. Где начинается фальшь, где начинается плохо, какие абзацы… Я вычеркивал. И начинается стратегия поведения. Не было никакой у него стратегии поведения. То есть такая умышленность русского человека… В его случае как раз правда очень важно. Он такой русский человек со всеми минусами и плюсами этого типа личности. Правда в нем это было. Как и в Есенине, кстати, это было. Но Есенин был действительно гораздо более умышленным, он дитя той эпохи. А этот к себе прислушивался, и что-то ему хотелось делать, а что-то не хотелось.
Вот я сказал, что ему социальные обстоятельства были не важны. Да нет. Иногда он вполне себе даже и мог поступить так, потому что так ему было удобно, это ему сулило какие-то социальные блага и все такое. И, конечно, например, поздняя дружба с Ахмадулиной была не только дружбой поэта и автора «Москвы – Петушков». Для него было важно, для него было существенно, что она была Ахмадулина, что она была подругой Высоцкого, которого он боготворил и с которым, кажется, никогда не встретился, что они ходили в ресторан ЦДЛ. То есть это тоже все было важно. На самом деле это было ужасно сложно писать и ужасно интересно, потому что только начнешь что-нибудь придумывать – все начинает разваливаться.
Николай Александров: Олег, а место Венедикта Ерофеева в кругу андеграундной культуры 1950-1970-х – насколько он следил за этим? Тем более это такая важная тема, которая потом будет откликаться в самых разных модификациях. Достаточно вспомнить из каких-то последних вещей такой очень важный роман Макарина «Андеграунд». Насколько в этом существовал Ерофеев? Насколько он откликался на ту культуру, которая вроде бы и должна была на него оказывать наибольшее влияние.
Олег Лекманов: Он был, конечно, сам по себе очень. И до определенного момента среда его общения в себя почти не включала литературных людей. И официальных литераторов, и подпольных на самом деле тоже. Его круг общения, я это описал… Да, конечно, в круг общения Бориса Андреевича Успенского входили и писатели, и так далее. Но это Ерофеева не очень затрагивало. Да, конечно, Ольга Александровна Седакова была поэтом, и тоже у нее был какой-то свой круг. Но до поры до времени он был немножко вне среды, я бы сказал. Это тоже такая удивительная, мне кажется, штука, что он… Он пописывает какие-то такие в меры остроумные, в меру яркие… И вдруг раз – и одной своей вещью поднимается до такого уровня, которого в России в прозе было очень мало. Ну, «Один день Ивана Денисовича», ну, Шаламов. Можно, конечно, назвать какие-то книги. Но чтоб так…
Николай Александров: Еще один персонаж, конечно, существует, который как будто параллельную страту занимает с Венедиктом Ерофеевым – это, разумеется, Саша Соколов.
Олег Лекманов: Это правда. Там тоже интересная история. Если потом вспомните, можно два слова про Сашу сказать.
Николай Александров: Давайте сразу скажем.
Олег Лекманов: Он его очень ценил как человека, но не смог читать «Школу для дураков». А Саша, насколько я понимаю… Но, к сожалению, мы с ним не поговорили. Он в малой доступности. Если получится, то поговорим. Саша Соколов, если вы нас смотрите, то позвоните по телефону. Кажется, ему «Москва – Петушки» скорее нравилось. А потом, когда он «Москва – Петушки» написал, тут произошло множество разных знакомств.
Николай Александров: Это вроде бы такой типично диссидентский путь – публикация на Западе.
Олег Лекманов: Понимаете, публикация на Западе все-таки – это опять какое-то сознательное усилие. Здесь было совершенно не так. Он это написал в тетрадочке. Потом жена Льва… перепечатала на машинке в шести экземплярах. А потом Ерофеев стал давать друзьям, приятелям. Это стало как-то размножаться. Он не сделал никаких усилий, для того чтобы это куда-то ушло. И потом в Израиле добрый человек это все перевез. И в израильском журнале это было напечатано, а потом начало уже расходиться, расходиться, расходиться.
Николай Александров: Вот видите, у Саши Соколова почти такая же история.
Олег Лекманов: Они все-таки очень разные. Но понятно, что… Действительно, что там и «Школа для дураков», и «Между собакой и волком» - это большая русская проза. Ну, ладно. Это мы в скобках. А дальше он, конечно, с какими-то андеграундными соприкасался. Он неплохо знал, например, ленинградцев – Кривулин и все эти люди, когда он туда приезжал. С другой стороны, с Александром Семеновичем Кушнером мы даже переписались. Он прислал маленький мемуар. С Битовым он был, конечно, знаком.
Николай Александров: Кстати, еще и пушкинский дом тоже в это время…
Олег Лекманов: Это правда. Но это совсем уже разные случаи. Мы в филологию уйдем и начнем обсуждать, почему разные. Он читал и хорошо относился. У него была разница между прозой и поэзией. К современной прозе он относился, в общем, с некоторым презрением. Ему не нравилось почти ничего. Он ценил, конечно, Солженицына. Ему очень нравился Борис Вахтин и его вещи («Одна абсолютно счастливая деревня»), то, что поставил покойный Фоменко. Вот Вахтин ему понравился. Он неплохо, сдержанно относился к Войновичу. И все. Но, скажем, ненавидел Лимонова. Его совершенно трясло от Лимонова. Я не уверен, что он так подробно…
Николай Александров: Читал.
Олег Лекманов: Наверное, читал. Читал наверняка, потому что с этим кругом он общался, с Сапгиром и другими, а к поэтам он был гораздо более снисходителен. Он совершенно обожал Ахмадулину. Очень любил. И Юрий Кублановский смешно вспоминает, что он позвал к себе в гости как-то и поставил ему пластинку. Вышла пластинка Ахмадулиной… Когда во второй раз он ее завел, Кублановский сказал «Нет. Спасибо Вере» и ушел. Но он действительно обожал ее. Странно или, наоборот, не странно, что все, кто с ней соприкасались, начинали плыть. И тот же Шукшин, и Юрий Коваль, прекрасный детский писатель, и вот Ерофеев.
И он ценил тех, кого он называл иронистами, потому что они покорежились немножко от такого. Ему очень нравился Пригов. Есть даже фотография, где они вдвоем. Ему нравился Иртеньев, ему нравился Владимир Друк. Вот этих поэтов он считал отчасти своими такими учениками. Потому что ему что-то знакомое, близкое себе слышалось. Но вообще в этом кругу он тоже был всегда на некоторой такой периферии. Опять же, он возлежал, смотрел, к нему приходили Сапгир и другие… Сапгир сам считал себя большим великим поэтом. Он и был большим поэтом. Но здесь он тоже был на некоторой периферии.
Николай Александров: Олег, если уж мы об этом заговорили, хочется вспомнить еще один тезис, который у вас прозвучал. Но уже сформулировав его как вопрос. Вы сказали, что Венедикт Ерофеев очень любил Высоцкого. Как вы думаете, почему? Почему именно Высоцкий так Ерофеева привлекал?
Олег Лекманов: Если можно, я бы вот с чего начал. Здесь Ерофеев совершенно неповинен в рождении этого мифа. Но тоже, когда сейчас были юбилейные интервью и это звучало во многих разных разговорах, их сравнивают часто. И… было глубоко неправильно. Когда говорится «Венечка Ерофеев, которого знает каждый в Москве от дворника от академика». Да ничуть не бывало. Ерофеев – очень узко известный (хотя это печально, наверное) человек. Все-таки его известность ограничивается.
Николай Александров: Народная слава преувеличена.
Олег Лекманов: Народной славы просто нету. Потому что, опять же, когда снимался этот репортаж… я тоже повинен в этих программах. Я участвовал в какой-то программе, где меня тащили в какой-то электричке. И когда они придумали оригинальный ход спрашивать у людей в электричке, которая ехала в Петушки – «а кто такой Венедикт Ерофеев?», - естественно 2/3 сказали: «Мы не знаем вообще, кто это такой. Отстаньте». Другое дело – Высоцкий или Есенин. А так они на одной стороне, а Ерофеев как автор, конечно, на другой.
Что касается любви, я думаю, что он видел… Я сам честно скажу, что я не поклонник Высоцкого такой большой, но я понимаю, что та энциклопедия советской жизни, которую Высоцкий создавал на наших глазах и Ерофеев это видел тоже, я думаю, что это ему должно было очень нравиться. Причем, я думаю, что для него как человека пишущего еще в своем языковом измерении. Потому что да, чего у Высоцкого не отнимешь – он замечательно умел не имитировать, не воспроизводить, а порождать тот образ, который он создавал – это все прекрасно оформлялось в тексте. И Ерофееву это очень нравилось.
Николай Александров: Олег, огромное спасибо вам за беседу. Получился у нас такой, можно сказать, пространный монолог и пространное повествование о Венедикте Ерофееве. И я думаю, что у нас еще с вами будет возможность встретиться и поговорить на другие темы не менее любопытные, связанные с обэриутами, с Осипом Мандельштамом, которыми вы также занимались, с Катаевым. И я надеюсь, что это не последняя наша встреча.
Олег Лекманов: Спасибо большое. Мне было тоже очень интересно.
Николай Александров: Спасибо.