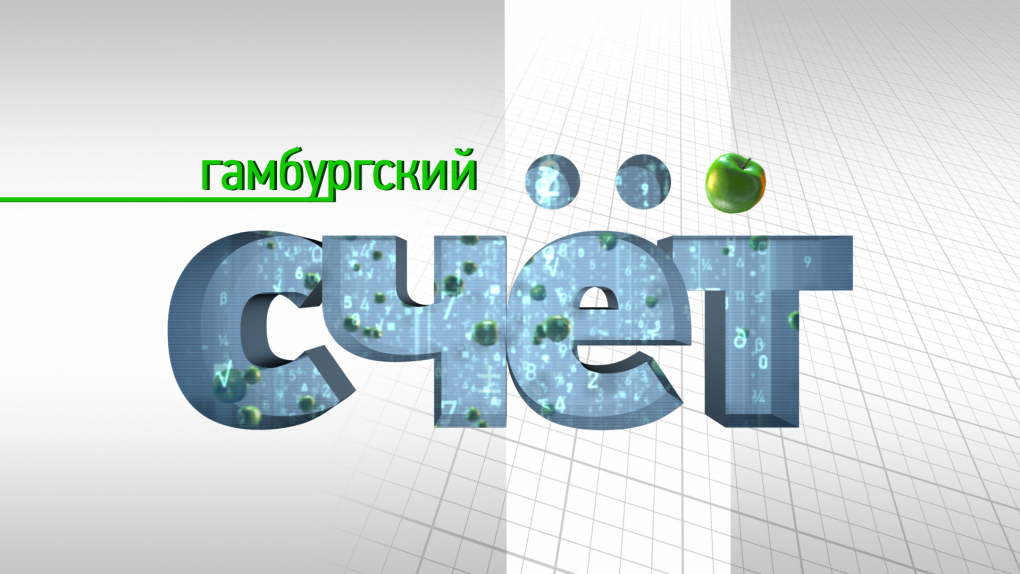Алексей Буряк: Лучший стратегический заряд - это булка хлеба
https://otr-online.ru/programmy/gamburgskii-schet/aleksei-buryak-23341.html 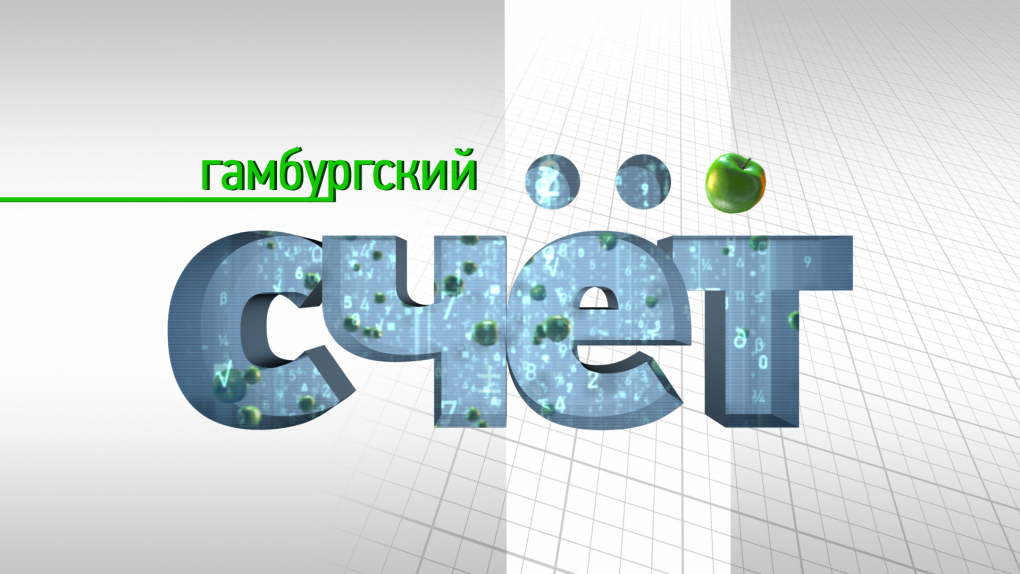
Ольга
Орлова: Во времена большой гонки вооружений военные разработки были серьезным
стимулом для прикладных исследований в науке, в частности в области химии. А
что сейчас служит импульсом для их развития? Об этом по гамбургскому счету мы
решили спросить директора Института физической химии и электрохимии имени
Фрумкина Российской академии наук Алексея Буряка.
Здравствуйте,
Алексей Константинович. Рады видеть вас у нас в студии.
Алексей
Буряк: Добрый день. Я тоже рад, что меня пригласили.
Алексей
Буряк. Родился в 1960 году в Москве. В 1982 году окончил Химический факультет
МГУ имени Ломоносова. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2000 году
– докторскую. С 1986 года работает в Институте физической химии и электрохимии
имени Фрумкина Российской академии наук.
В
2016 году стал его директором. Член редколлегии журнала "Сорбционные и
хроматографические процессы". Председатель секции "Кинетика и
динамика обменных процессов" научного совета Российской академии наук по
физической химии. Автор более 200 научных статей и 11 патентов.
О.О.:
Алексей Константинович, вы, получается, директор нового постреформенного
призыва. Вас не так давно выдвинул ваш коллектив, вас утверждало уже ФАНО. Вы
стали директором института ФАНО. По сравнению с положением академического
директора это ведь очень большие ограничения, меньше возможностей, меньше
свобод. И вообще зачем вам это? Ведь участь директора ФАНО, как сейчас говорят
среди ученых, очень незавидна.
А.Б.: С
одной стороны – да. Немножко изменился статус директора, поскольку он считается
сотрудником ФАНО, а не сотрудником Академии наук, не сотрудником института. С
одной стороны, меня очень поддерживал коллектив. И коллектив выдвигал. Все наши
кандидаты были сотрудниками института, потому что мы хотели, чтобы все-таки
административной работой занимался человек, который занимался и научной
работой. И который собирается продолжать заниматься научной работой.
С другой стороны, сейчас все больше и больше соблюдается
этот принцип двух ключей, о котором так много говорят, что все-таки научная
часть и выдвижение наших кандидатов – все приходили в президиум академии, их
выслушивало отделение химии, давало какие-то свои рекомендации. А кадровое
агентство ФАНО только просматривало бумаги и рассматривало только по формальным
признакам. Поэтому мне кажется, что когда ситуация будет все более и более
гармонизироваться…
О.О.:
Алексей Константинович, а как вы как директор видите какие-то способы удержать молодежь,
сохранить в институте? Ваш институт находится в Москве. Есть такая проблема,
которую очень многие академические институты и руководство осознает, что если у
тебя есть талантливый молодой сотрудник, аспирант, которого ты хочешь оставить,
чтобы он работал в институте, если он не москвич, то вариантов оставить его в
Москве почти нет. Потому что жилье молодым ученым почти недоступно,
академическая программа работает для очень узкого круга, всех не обеспечит. И это
люди, как правило, уезжают.
А.Б.:
Здесь не могу с вами согласиться. Во-первых, если уж человек хочет заниматься
наукой, то его никто не остановит. Это первое.
О.О.:
Конечно, он уедет на Запад, его никто не остановит.
А.Б.: Он
останется заниматься там, где впервые он получил научные результаты. Именно в
своем институте или своем вузе. А вот говоря о жилищной программе, она сейчас в
академии есть, и она год из-за кризиса не работала, но сейчас она снова
восстанавливается. И мы надеемся…
О.О.:
Она и раньше работала с очень большими ограничениями, прежде всего
количественными. И это были молодые доктора, у которых по трое детей. А если
тебе 25 лет и у тебя нет ребенка, ты в этой программе вообще участвовать не
можешь, тебя просто в очередь не пустят.
Мы гордимся, что многие наши выпускники, кандидаты наук, где-то даже и доктора работают в важных для страны направлениях
А.Б.:
Там действительно сложный процесс постановки в эту очередь. Но по нашему
институту я вижу, что действительно и достойные, но, естественно, нуждающиеся
из достойных все стоят в этой очереди. И года два назад эта очередь очень
хорошо продвинулась. И люди получили жилье. И сейчас тоже с этого года я думаю,
что в 2017 году что-то будет очень положительное в этом направлении. Но и надо
сказать, что все не могут остаться в институте. Все-таки наша задача – это
создать квалифицированные кадры для других отраслей. И мы гордимся, что многие
наши выпускники, кандидаты наук, где-то даже и доктора работают в других важных
для страны направлениях.
Например, одна из наших выпускниц Светлана Голубь сейчас
работает в Роскосмосе. Начальник лаборатории контроля ракетного топлива.
О.О.:
Это та область, которая вам ближе, область ваших научных интересов.
А.Б.: Я
просто знаю, что у нее все хорошо.
О.О.:
Скажите, пожалуйста, как в вашем институте решается такое противоречие, о
котором сейчас очень много говорят, оно обсуждается. Это так называемый
проектный подход в научных исследованиях. И, в общем, научная реальность.
Потому что, с одной стороны, если у вас есть конкретная научная задача, под
которую выделены деньги, определены сроки и вы должны ее решить, это одна
история. Но многие ученые, причем, ученые очень серьезные, с прекрасными
результатами, они не любят даже вообще это словосочетание - "проектный
подход", потому что они понимают, какие серьезные ограничения этот
проектный подход накладывает на самую идею фундаментальных исследований. И у
многих это вызывает протест. Как вы к этому относитесь?
А.Б.:
Здесь надо только согласиться с этим протестом, потому что это не
фундаментальные исследования. Если задача решить конкретную проблему, то…
О.О.:
Это ориентированные и исследования.
А.Б.:
Да, ориентированные исследования. В них может принимать участие академический
институт. Ничего страшного в этом нет. Фактически все так называемые еще с
советских времен хоздоговорные работы – это и есть такие исследования. Они
иногда были даже короче, всего за год надо было что-то сделать. Но если есть
хороший фундаментальный задел, какая-то база, то это все решаемо, это возможно.
И это даже очень интересно ученым, которые как бы столкнутся с реальной жизнью,
с внедрением своих результатов, с другими людьми, с технологами. Они вроде химики-технологи,
но это совсем другие люди. У них совершенно другой подход, другой взгляд. Это
как бы взгляд с другой стороны на химию. И это очень важно, это очень расширяет
кругозор ученых. И, вообще говоря, это во всем мире такая проблема.
О.О.:
Например, как у вас, например, ваши коллеги, как вы убеждаете ваших коллег в
институте, которые занимаются фундаментальными исследованиями? Как вы с ними
находите общий язык?
А.Б.: Здесь,
конечно, заставить кого-то заниматься такой работой невозможно. Это человек
должен сам захотеть внедрить свои результаты. Это очень сложно, это важно.
Многие действительно от этого отказываются и занимаются исключительно
фундаментальными исследованиями. Но если существует критическая технология или
угроза национальной безопасности из-за того, что нет какого-то материала или
нет какой-то технологии, то многие с готовностью… Это может быть какой-то
межинститутский комплекс, где объединятся отдельные институты или отдельные
лаборатории из этих институтов. И они решат эту задачу. Конечно, в процессе
этой работы возникнут многие новые направления. И вот здесь уже безумно жалко
их бросать. Когда финансирование закончилось, выдали какой-то продукт.
О.О.:
Ведь это одно из таких побочных неприятных последствий проектного подхода,
когда у тебя открылись в это время какие-то перспективы, но все, финансирование
закончилось и едем… Ты не можешь продолжать.
А.Б.:
Поэтому мы очень стараемся отстаивать, чтобы сохранилось базовое бюджетное
финансирование, чтобы человек мог, отработав сколько-то лет (2-3 года) по
такому проекту, вернуться на свою базовую ставку и продолжать что-то новое,
которое неизвестно, выльется в какие-то практические результаты или не
выльется, но продолжать фундаментальные исследования. Вот это очень важно.
Нельзя лишиться именно такой академической стабильности.
О.О.:
Скажите, пожалуйста, вы чуть выше произнесли такие интересные слова, что у
химиков-технологов совершенно другой взгляд на химию. А вы можете пояснить
разницу между фундаментальным химиком и химиком-технологом. Что это такое? Что
значит другой взгляд на химию? Другой подход.
А.Б.:
Теоретик решает задачу, не оглядываясь реальности сегодняшнего дня. Он может
предложить какой-то материал, который действительно обладает феноменальными
свойствами. Но он стоит столько, что никто никогда не сможет его… И здесь
приходит на помощь технолог, который, может быть, даже несколько меняя свойства
этого материала, отказываясь от каких-то суперпараметров, но делает из этого
материала реальный товарный продукт.
И как только этот товарный продукт появляется на рынке,
причем, в массовом масштабе, он становится снова сырьем и основой для
дальнейшего исследования. Он уже открывается многочисленные направления для его
применения и в других областях той же самой химии. Это касается, например, и
каких-то сорбентов, и углеродных материалов, и абсолютно всего. Это такая очень
сложная взаимосвязь технологии и фундаментальной науки.
О.О.:
То есть химик-технолог – это тот, кто приземляет научный полет
химика-теоретика, адаптирует его к реальности.
А.Б.: С
другой стороны, в обмен выдает ему новые орудия для творчества, расширяет
область материалов, область технологий.
О.О.:
И возможностей.
А.Б.: И,
конечно, возможностей.
О.О.:
У вас было довольно много работ, прикладных исследований, связанных с военной
тематикой. И, очевидно, у вас был какой-то доступ к каким-то секретным
объектам. При этом вы публиковались в международных журналах. Как вам удавалось
это совмещать?
А.Б.:
Это совершенно разные тематики. То, что публиковалось в международных журналах
– это чисто фундаментальные исследования, которые никак не затрагивали работы
по оборонным направлениям.
О.О.:
Я знаю, у некоторых ваших коллег, в том числе и химиков, и физиков, которые
говорят, что "я сознательно избегаю любых прикладных работ с военными, потому
что не хочу сложностей со своей международной деятельностью".
А.Б.:
Это совершенно неправильный подход. Это совершенно зря. Потому что просто не
надо публиковать то, что имеет какую-то закрытую составляющую. А все то, что
делается параллельно и то, что выполнено как бы сверх гособоронзаказа – это все
имеет право быть опубликовано.
И, потом, ученый же не может заниматься какой-то одной
тематикой. Обычно как-то направлений очень много. Что-то, может быть, действительно
в международных каких-то трендах, а что-то может быть чисто прикладные
исследования, которые тоже очень важны для нашей страны, и нельзя забывать о
своей обороноспособности.
О.О.:
А вот как раз как выглядит формальный CV ученого, который много работает в
оборонной тематике и его количество публикаций в международных журналах
невелико. Но при этом у него есть очень серьезные результаты, о которых
международное сообщество не знает.
А.Б.:
Зато его хорошо знают наши российские ученые. И они знают его конкретные
результаты. Он может положить на стол не список своих публикаций, а
изготовленный им материал, который обычно на или превышает мировой уровень. Это
очень важно. Это какое-то изделие или какая-то технология. И надо еще сказать,
что в принципе путь от лаборатории до производства очень большой. Даже если бы
и не работал в оборонной тематике, он бы тоже не мог это опубликовать. Он
сначала должен это апробировать, пройти полупромышленные какие-то испытания. И
только когда появился товар, тогда уже и надо это публиковать. В
противоположном случае он, опубликовав статью о какой-то новой реакции или о
каком-то новом процессе, завтра увидит этот товар уже на прилавке. Но он будет
сделан не в России.
О.О.:
Как это часто и бывает. И мы это наблюдали не раз. А все-таки если вернуться к
вашему опыту сотрудничества с военными, расскажите, как вообще вам удавалось
совмещать академическую культуру и военную. Это ведь очень разные психологии,
разные подходы к работе, разные корпоративные культуры. Как у вас это работало?
А.Б.: Вы
знаете, это действительно все сложно совмещать. И мы начали довольно сложный
период в 1990-е годы, когда и военные очень плохо финансировались, и Академия
наук плохо финансировалась. И было трудно найти какие-то точки соприкосновения.
Постепенно как-то удалось наладить. Мы начали, конечно, с экологических
исследований, когда в начале перестройки вдруг выяснилось, что первый
заместитель министра обороны США – это эколог, у нас тоже стали обращать
внимания на экологические последствия военно-технической деятельности. Там
есть, конечно, сложности.
Например, при обследовании резервуаров, в которых
хранилось топливо, все академические ученые легко смогли залезть в этот
резервуар, а многие полковники застряли: им мешал живот. Поэтому даже на таком
уровне возникали проблемы.
О.О.:
Вы как раз упомянули заместителя министра обороны США, который был эколог. Я
видела, что у вас есть целый ряд работ, посвященных именно проблемам последствий
токсичности топлива, и не только топлива, а всей территории космодромов,
ракетных установок, которые были сильно загрязнены. И в советское время было
известно, что эти территории очень грязные. Было потом много рассказов после
перестройки о том, что те советские базы, которые оставались в Западной Европе,
эту территорию так дорого было очищать, что некоторые просто консервировали.
Это была такая серьезная проблема.
С
тех пор насколько изменилась культура эксплуатации этих военных территорий? Как
вы почувствовали как ученый, как часто к вам обращаются с этим военные?
А.Б.:
Сейчас экологические проблемы в армии не сказать на первом месте, но они
успешно решаются.
Что касается баз в Западной Европе, то там чисто
политические решения. Их даже не надо обсуждать. А что касается токсичности
ракетного топлива, то здесь по многим направлениям, конечно, идет решение этих
проблем. Это и создание просто ракет на экологическом топливе. Это "Ангара",
которая кислород-керосиновая. И, конечно, это повышение культуры обращения с
токсичным топливом, с гептилом. Эта проблема решается очень эффективно. Сейчас
уже нет проблемы в рекультивации проливов, нет проблемы в дезактивации
территорий и баков.
О.О.:
То есть вы хотите сказать, что, допустим, территория вокруг космодрома или даже
если какие-то территории решили перенести, законсервировать, то там через
некоторое время и вода, и почва могут быть восстановлены вполне в стадию нормы?
А.Б.:
Да. Более того, мы участвовали в таких работах по передаче объектов ракетных
войск стратегического назначения, которые в рамках ОСВ-2 выводились из
эксплуатации при передаче другим родам войск. Там вся территория была
рекультивирована: грунты, почвы – все это было восстановлено. И там другие войска
расположены. И они совершенно в экологически безопасных условиях работают.
О.О.:
Алексей Константинович, даже по вашей собственной научной биографии видно, как много
научных и прикладных задач было у наших ученых в советское время от военных
проблем, от военной области. И видно, что оборонка – это был такой мощный
заказчик, стимул для развития определенных научных областей. В частности, и
вашей. Потому что те ваши работы, которые посвящены сохранности ракетных
конструкций от ликвидации токсичного топлива, там, где возникают эти прогары и
прочее, то понятно, как много ученые тогда получали заказов, стимулов и как это
действовало на определенные научные области.
А
сейчас прошло 26 лет со времени окончания Холодной войны и распада Советского
Союза. За это время что было стимулом для развития вашей области, какие
появились новые драйверы в этой области? И плюс ведь произошли очень сильные
технологические изменения во всем мире, когда уже нет деления в некоторых сферах
на военные разработки и мирные гражданские. Сейчас очень много технологий
просто двойного применения. Ты можешь их применять и там, и там, и так далее.
Это все-таки принципиально сильно отличается за 25 лет. Как вы сейчас
развиваетесь?
Основной стратегический заряд – это булка хлеба
А.Б.: Всегда
разработки были двойного назначения. Основной стратегический заряд – это булка
хлеба на самом деле. Потому что если его нет, то дальше говорить не о чем. В
советское время просто наука немножко страдала от этой безумной секретности. А
сейчас то, что есть возможность использовать разработку и в военной, и в
гражданской области, это очень позитивный момент. И это на самом деле снижает
экономическую нагрузку на общество, когда, например, новое топливо и новые
ракетные изделия могут быть использованы и для запусков военных спутников, и
гражданских спутников.
Поэтому сейчас после действительно довольно длительного
перерыва разворачиваются работы и по созданию новых топлив, и по созданию новых
носителей, и, конечно, новых конструкционных материалов для и ракетной техники,
и для восстановления авиации, которая в нашей стране, конечно, пострадала за
период перестройки. И здесь, конечно, большие задачи стоят перед академическими
институтами, которые они, с моей точки зрения, могут решить в связке с
институтами… раньше их называли "прикладные". Сейчас они немногие из
сохранившихся, к сожалению, стали федеральными центрами. Но они проводят очень
важную актуальную работу по практическому внедрению этих фундаментальных
научных разработок.
О.О.:
Хорошо. Просто я имею в виду – кто теперь ваши основные заказчики, кроме
оборонки? Понятно, что раньше оборонка занимала очень серьезные… Это был
серьезный заказчик. А сейчас?
А.Б.:
Здесь надо сказать, что все крупные государственные монополии сейчас и остаются
заказчиками. Это и тот же "Газпром", и "РЖД", и какие-то крупные
наши нефтевыкачивающие организации.
О.О.:
В этой студии сидел ваш коллега директор сначала Института проблем передачи
информации, теперь уже ректор Сколтеха Александр Петрович Кулешов. Он любит
шутить, что "я певец Холодной войны", потому что в советские времена
он работал в оборонке. И он видел, какой это был сильный мощный импульс для
ученых. И это время он вспоминает с большой теплотой. А вы в этом смысле певец
Холодной войны? Например, сейчас та ситуация, эскалация международной ситуации
– вы на это смотрите с надеждой?
А.Б.: Ни
в коем случае нет. Мне кажется, что это временное охлаждение отношений. Я
считаю, что отношения должны максимально налаживаться. И это не значит хорошие
отношения, это не значит, что не надо уделять внимание своей
обороноспособности, тем более что сейчас действительно появилась возможность работать
в двух направлениях: и военного, и гражданского. И это очень важно.
Исчезновение этой безумной секретности, закрытости.
О.О.:
А вам это как ученому мешало? У вас были в связи с этим какие-то сложности?
А.Б.: Каких-то
суперсложностей не было. Но у тех, кто занимался только оборонными и имел
какие-то высокие формы секретности, им, конечно, было невозможно выехать за
рубеж, поучаствовать в каких-то международных конференциях. А вот это очень
важно для ученого, конечно, контакты на таком международном уровне, участие в мировом
сообществе.
О.О.:
И тогда мой последний вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы перестанете быть
директором, пройдет сколько-то сроков, один или два, как сложится, каким вы
хотите оставить свой институт, каким вы его видите?
А.Б.: Я
хотел бы передать своему преемнику институт, так же как предыдущий директор Аслан
Юсупович Цивадзе передал мне институт в расцвете, успешно и интенсивно
работающий во всех отраслях. И, конечно, самое главное – я бы хотел, чтобы
институт превратился как бы в самоподдерживающийся организм, где сами ученые бы
могли определять и тематику, и направления, и такое кадровое обновление.
О.О.:
Чтобы смена директора не была особенно заметна?
А.Б.:
Да. Все-таки постепенно надо двигаться к тому, что администрация, дирекция –
это как бы люди, хорошо понимающие, что происходит в науке, но не мешающие ей,
а наоборот только помогающие, лишь чуть-чуть касающиеся, когда надо как-то
чуть-чуть направить. А так, чтобы сами ученые могли регулировать этот процесс
движения к дальнейшим…
О.О.: Спасибо большое. У нас в программе был
директор Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина Российской
академии наук Алексей Буряк.