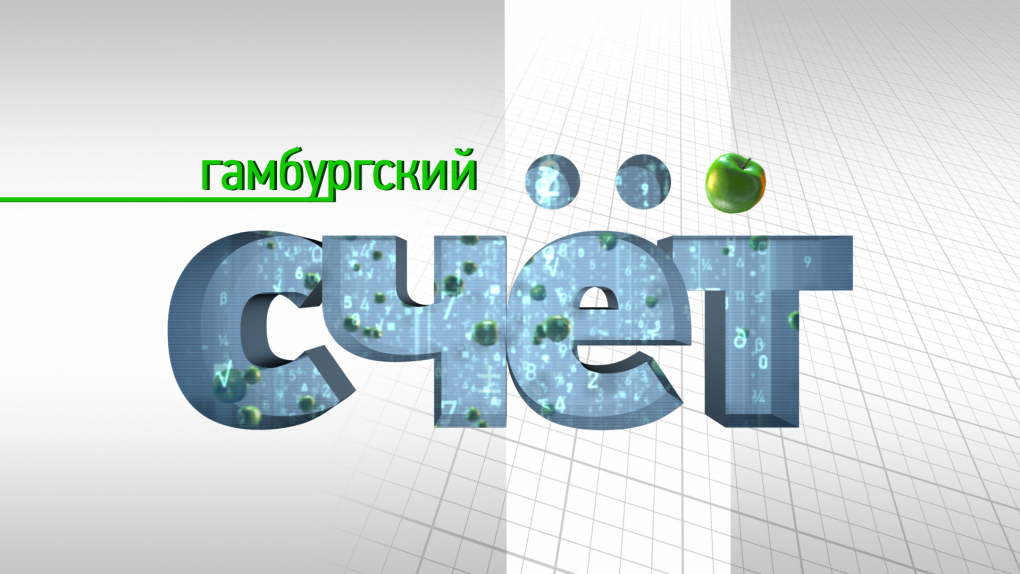115 лет «Кровавому воскресенью»: как утопия уничтожила реальность
https://otr-online.ru/programmy/gamburgskii-schet/anons-115-let-krovavomu-voskresenyu-kak-utopiya-unichtozhila-realnost-40678.html 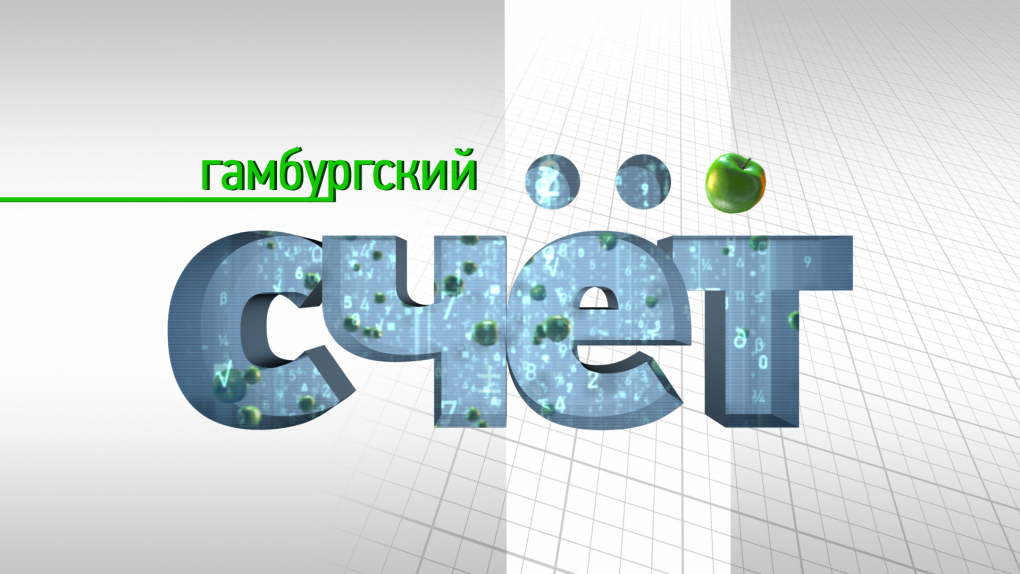
Ольга Орлова: 115 лет Кровавому воскресенью. Почему вместо победоносной войны с Японией случилась Первая русская революция? Обсудим с доктором исторических наук, профессором Высшей школы экономики Михаилом Давыдовым.
Здравствуйте, Михаил. Спасибо, что пришли к нам в студию.
Михаил Давыдов: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Ольга Орлова: Михаил Давыдов. Родился в 1954 году в Полтаве. В 1981-ом закончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова. В 1986-ом защитил кандидатскую диссертацию по теме «Монополия и конкуренция в сахарной промышленности России начала XX века». В 2004-ом получил степень доктора исторических наук за диссертацию «Рынок и рыночные связи России в конце XIX – начале XX веков». С 1988-го по 2011-ый преподавал в РГГУ. С 2011-го по 2015-ый – ведущий научный сотрудник Института экономики РАН. В 2013-ом был приглашенным профессором Цилинского университета в Китае. С 2012-го – профессор Высшей школы экономики. Автор более 80 научных публикаций, в том числе и 4 монографий. Лауреат премий Егора Гайдара 2017 года в номинации «За выдающийся вклад в развитие исторической науки в России».
115 лет назад началась Первая русская революция, которая началась с Кровавого воскресенья 9 января. Революция явилась следствием в то время проигрываемой Русско-японской войны. Как вы думаете, можно понять, осознавала ли власть, осознавал ли царь, осознавали ли русские элиты эту связку между войной, неудачной для России, и между реформами, которые были проведены предыдущие полвека, предыдущие 40 лет? Понимали ли они связь между этим?
Михаил Давыдов: Часть элит понимала это. Как известно, министр внутренних дел Плеве сказал сакраментальную фразу в свое время: «Для того чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». Когда начиналась война с Японией. Победоносной войны не получилось, и получилась революция.
Ольга Орлова: Понимали ли власти, почему не получилось победоносной войны?
Михаил Давыдов: И да, и нет. Потому что было очень много смягчающих обязательств: не достроили Транссиб. А зачем мы тогда в войну ввязались, если не достроен Транссиб? Вот еще не все войска привезли на Дальний Восток. То есть позже, конечно, эта связь для большой части элит стала очевидной, с чем, собственно говоря, и связан тот перелом в нашей истории, которая связана с именем Столыпина. Дело в том, что Россия, по моему глубокому убеждению, после 1861 года фактически пыталась реализовать первую утопию в своей истории. Вопреки тому, что мы обычно слышим, построение коммунизма и светлого будущего – это не первая утопия в нашей истории. Нет. После 1861 года Россия пытается реализовать гигантскую антикапиталистическую утопию, смысл которой заключается вот в чем: что можно быть в индустриальную эпоху самобытной «великой державой». То есть влиять на судьбы человечества, влиять на историю, отрицая, принципиально отвергая все то, за счет чего враги и конкуренты добились процветания. Прежде всего бессословный (то есть общегражданский) правовой строй, права человека, свобода бизнеса и целый ряд других признаков модернизирующегося государства. Эта утопия, по моим представлениям, формировалась в течение всей первой половины XIX века.
После 1815 года (после победы над Наполеоном) в средствах массовой информации постоянно муссируется такая проблема. Начавшийся на Западе капитализм рождает пролетариат. Вот язва пролетариатства – это один из любимых, часто встречающихся терминов в журналистике… Вплоть до середины XIX века.
Ольга Орлова: А с чем была связана эта боязнь пролетариата? То есть не нужно было даже строить современное производство, не дай бог чтобы пролетарии в России не завелись. Чем пугал пролетариат?
Михаил Давыдов: Как чем? Пролетариат – это беспокойный вирус. Это то, что взрывает Запад. Ольга, да, Наполеона отправили на Святую Елену, но революции не закончились. И Россия на этом фоне стоит абсолютно скалой Гибралтара. У них там какие-то волны, а мы стоим. Почему? Потому что у нас нормальный патриархальный строй. Да, он патриархальный, но мы не давали подписки следовать за вами путем, который предполагает социальные конфликты, пролетаризацию, революции и так далее. И на этом фоне зарождается в очередной раз в России идея, что Запад подыхает, Запад умирает. Просто по разной причине умирал. В этот раз причиной объявили капитализм, пролетариат, частную собственность, эгоизм, индивидуализм.
Поэтому к реформе 1861 года для значительной части (не всей, конечно) совершенно очевидно, что капитализм – это уже апробированный человечеством неудачный вариант развития. Отсюда все эти герценовские совершенно сумасшедшие идеи о преобразовании крепостничества сразу в социализм.
Ольга Орлова: То есть это нам хорошо знакомая идея обогнать, не догнав?
Михаил Давыдов: Да, совершенно точно.
Ольга Орлова: Смотрите, Михаил, ведь возвращаясь к Русско-японской войне, одновременно, когда в России началась крепостная реформа, в это же самое время закрытая, отсталая, архаичная Япония начинает реформы.
Михаил Давыдов: Из самурайского кино.
Ольга Орлова: Да, это была действительно страна из самурайского кино. Хорошо, Запад загнивает. Но российские власти не могли же не знать, вступая в Русско-японскую войну, что ровно одновременно с ними 40 лет идут реформы в Японии. В Японии идет модернизация. Они же не могли не знать о том, как это происходит и что происходит с тем соседом, с которым они собрались воевать?
Михаил Давыдов: Оля, вы и правы, и не правы. Аналогию вы хорошую, точную взяли. Вот почему. Мы начинаем модернизацию в 1861 году. Они – в 1868-ом. За 5 лет до 1873 года, невзирая на вспышки гражданской войны, а там это реально было… Вот фильм «Последний самурай», где Том Круз играет – это некий дайджест, что-то среднее, как судьба Бориса Трубецкого, Андрея Болконского и так далее. Несмотря на это, они за 5 лет делают то, на что Россия не отважилась за 50. А именно: устраивают бессословное государство и добиваются этого. Они проводят аграрную реформу, выкупают у знати земли. По хорошей цене выкупают, знать довольна. Проводят аграрную реформу, делают крестьян собственниками. Не все крестьяне остались собственниками, но большинство осталось. Полная свобода бизнеса, банковская система. Всеобщая воинская повинность, которая лишает самураев исключительного положения. И, собственно говоря, социальные лифты стали работать. По крайней мере в вооруженных силах. Вводят всеобщее начальное 4-классное образование для мальчиков и девочек. И к 1880-ым годам по этому показателю соперничают с Англией.
Затем в начале 1880-х годов появляются первые политические партии, а в 1889 году (через 20 лет) парламент. Это была радикальная перестройка страны. При этом они не потеряли ни культурной самобытности. Мы знаем, что за этой самобытностью и сейчас очередь стоит в Японию из жителей других стран.
К сожалению, наших погубило воспоминание о прошлом величии. Ольга, после Полтавской битвы и вплоть до Аустерлица и Тильзита Россия была просто непобедимой страной. Хорошо, в 1812-1814 году и с Наполеоном рассчитались. И снова абсолютно ясно, что мы первые. На этом ощущении победоносности (это прекрасное чувство для каждого нормального гражданина) Россия живет до Крымской войны, где оказывается, что все не так просто, не так легко.
Но к Японии было абсолютно такое многоступенчатое высокомерие, в том числе национальное. Вы знаете, в определенных кругах японцы – макаки. На что, как уверяет Шульгин, знаменитый генерал Драгомиров, киевский генерал-губернатор и командующий Киевским военным округом, заметил: «Они-то макаки, а мы то кое-каки».
Ольга Орлова: А насколько вообще Русско-японская война была необходима России?
Михаил Давыдов: Абсолютно она была не нужна.
Ольга Орлова: А зачем она нужна была России?
Михаил Давыдов: Царю Николаю II надо было самоутвердиться. Он был из тех людей, которым надо самоутверждаться так. Вот его отцу Александру III это было не надо. Никто не мог представить, глядя на него, что он может чего-то бояться, почему-то быть неуверенным. Просто была олицетворенная мощь огромной страны. Николай II был совершенно другим. И в этом плане опытные люди типа Витте, Гурго пишут, что не было б Японии – был бы Верхний Босфор, пытались бы захватить часть проливов.
Ольга Орлова: Михаил, а все-таки трудно себе представить. Если у вас есть на глазах пример Японии, которая за несколько десятилетий проходит этот путь, который вы описали. И в Японии понимают необходимость, понимают, почему нужны другие общественные институты и отношения, если у вас другая экономическая система, если вы хотите строить другую социальную страну. Почему в России власти не понимают этой связи?
Михаил Давыдов: Дело в том, что вообще частная собственность… большая часть общества мыслила совершенно крепостнически. Дело в том, что нормальный настоящий капитализм прежде всего – это право. Если у людей нет прав, то как он будет бизнесом заниматься, какая будет мобильность на рынке, какой будет оборот? «Мы же самобытны». Понимаете, Ольга, здесь вся эта утопия…
Ольга Орлова: Подождите. Что получается? В России самобытность понимают как ограничение прав и свобод.
Михаил Давыдов: Это да. Самобытность стала своего рода религией. Чтобы перевести на понятный язык, законы политического и экономического развития заканчиваются на русской границе. Вот эти законы нам не указ.
Голос за кадром: «Как правительство, так и помещики равно утверждают, что либеральные стремления – не что иное, как подражание Западу, нисколько не приложимые к России. Россия, по их мнению – страна, совершенно не похожая на другие, имеющая такие особенности, которые делают существующий порядок единственно для нее возможным. Никто, впрочем, до сих пор не потрудился объяснить, что это за странные особенности. Кажется, это обыкновенно то, что выгодно для властей. Аргументы одинаковы. Это аргументы всех притеснителей». Борис Николаевич Чичерин, 1856 год.
Ольга Орлова: То есть это известное выражение «Вы что, хотите угрозы? Вы что, хотите, чтоб было, как в Париже?» - оно родилось не сегодня?
Михаил Давыдов: Не сегодня. Совершенно не сегодня.
Ольга Орлова: Смотрите, вот когда затевается реформа крепостного права, 1861 год, и все равно как проводится реформа, при этом не решая проблем частной собственности. Как это возможно сделать?
Михаил Давыдов: Возможно. Первое. Сергей Мироненко дал очень точное определение, на мой взгляд – великая, но неудачная реформа. Дело в том, что, с одной стороны, Александр II ясно сказал, что мы берем курс на правовое государство. И сказал он это в 1861 году. И действительно в результате великих реформ 10-15% населения (не крестьяне) получили гражданские права. А крестьяне не получили. Притом, что было объявлено, что мы забираем у помещиков землю, даем ее вам. После выкупа (через 49-50 лет) вы будете ее собственником. И, кстати, после того, как крестьяне подписывают уставную грамоту и переходят на выкуп, их официально именуют крестьянами-собственниками.
Ольга Орлова: А на деле они собственниками не являются, что является совершенно бессмысленным, когда тебе говорят: «Ты будешь это иметь только через 50 лет».
Михаил Давыдов: Да. Начинается выкуп. Собственник земли – община. Ты платишь, допустим, за 6 квадратов этой территории, кто-то платит за 2, кто-то за 4. Но вы не собственники. И община эти квадраты имеет право переделять. Какое здесь ощущение устойчивости, уверенности и так далее? Правительство в большой мере само подогревало идею черного передела своей политикой, вот этой политикой на деление. Если бы оно зафиксировало те земельные отношения, которые были перед освобождением…
Ольга Орлова: А почему оно этого не сделало? Причина…
Михаил Давыдов: Причина – недостаточная компетентность.
Ольга Орлова: Это не есть вопрос недоверия крестьянам?
Михаил Давыдов: Оля, это огромнейший вопрос. Я использую такое понятие – социальный расизм. Социальный расизм русского дворянства означает, что оно не воспринимало крестьян как равноправных социальных интеллектуальных партнеров.
Ольга Орлова: Хорошо. Но как это великая неудачная аграрная реформа, которая произошла, как в результате этого все привело к 1905 году? Как мы оказались в 1905 году? Какая между этим связь?
Михаил Давыдов: А связь очень простая. Два поколения русских крестьян… От 1862 года… Уже родились люди, которые не знали крепостного права. И вплоть до 1905 года они выросли в режиме, отрицающем всякую законность и отрицающую право собственности.
Голос за кадром: «Россия составляет в одном отношении исключение из всех стран мира. Исключение это состоит в том, что систематически в течение двух поколений народ воспитывается в отсутствии понятия о собственности и законности. Какие исторические события являются результатом того, затрудняюсь сказать, но чую, что последствия будут очень серьезные. Раз крестьяне в себе не имеют чувства собственности, то, очевидно, они не будут уважать и чужой собственности». Сергей Юльевич Витте. 12 марта 1905 года.
Ольга Орлова: То есть если бы в 1861 году не только началась одновременно аграрная реформа, но при этом и построение настоящего правового государства, то революционных настроений и событий можно было избежать?
Михаил Давыдов: В какой-то мере – да. У крестьян, конечно, было бы совсем другое к этому отношение. Кстати, есть такой очень интересный в этом плане сюжетик. В 1917 году происходила вторая подряд сельскохозяйственная всероссийская перепись. Очень важный источник. И вот один псковский крестьянин на вопрос анкеты «Хотят ли хуторяне или отрубники вернуться в общину?» он взял и на этом бланке написал следующий стишок: «Хутор – поле небольшое, оно вечное мое. Смело в землю плуг пускаю, смело садик возражу. Не бояся переделов, все навозом уложу. С капиталом соберусь, все кругом огорожу. Теперь смело расчищаю, что сосед мой зарастил. Смело камни убираю, не жалея своих сил». Понимаете? Хочет ли он вернуться в общину?
Один подмосковный крестьянин сказал очень образно, когда его спрашивали, почему такое оживление на хуторах: «Понимаете, мы теперь с земелькой как будто обвенчаны. Раньше она в общине была, как девка гулящая, а теперь она моя – хороша она, худа, а никто к ней не полезет». Это, конечно, совершенно иное отношение. И это иное отношение фиксируется уже в 1860-1870-х, когда крестьяне начали потихонечку покупать землю. Уже помимо общины, для себя.
Но славянофильское лекало – «Какое чувство собственности? Только коллективность». Понимаете? Они навязывали крестьянам свое мировоззрение. Позже это будут делать народники. То есть этот утопизм, конечно, сидел в крови не только правительства. Но правительство нашло в себе силы, когда эта гипотеза о самобытной великой державе привела страну на грань гибели из-за Русско-Японской войны и революции, тогда в истеблишменте нашлись люди, которые решили сменить алгоритм развития страны. И Столыпин выразил эту смену алгоритма в известных словах: «Отечество наше, преобразованное по воле монарха, превратится в правовое государство». И сразу же до этого, 5 октября 1906 года, крестьяне были практически уравнены в правах с остальным населением.
Ольга Орлова: Мы начали разговор с того, что Россия вступила на путь утопии намного раньше, чем 1917 год. И было это до событий Первой русской революции. Как вы думаете, когда она с него сошла? Она с этого утопического пути сошла?
Михаил Давыдов: Вы знаете, у меня большие сомнения. Судя по тому, что я вижу сейчас, слишком много общего между тем, что… Хотя ясно, что все исторические аналогии условны.
Ольга Орлова: Смотрите, я просто смотрю вашу работу в своей статье о проблемах российской модернизации. Вы пишете: «Слабое развитие промышленности – это не приговор истории Российской империи, а закономерное следствие осознанной торгово-промышленной политики правительства. Эта политика, в частности, не предполагала предоставление бизнесу полной свободы, подозрительно воспринимала иностранные капиталы и множеством архаичных ограничений затрудняло образование новых предприятий». Вы это пишете про…
Михаил Давыдов: Про начало XX века.
Ольга Орлова: Кажется, что нет. Кажется, что примерно такие же речи сейчас звучат на всех экономических бизнес-форумах, которые происходят в России, включая знаменитый Санкт-Петербургский экономический форум, Красноярский и многие другие. И мы видим одно и то же – боязнь иностранного капитала, ограничение свобод, препятствие бизнесу. Что это? Получается, что с этого утопического пути Россия так и не сошла, зайдя в 75-летний аппендикс советской власти?
Михаил Давыдов: Ольга, конечно, нет. Дело в том, что если эта проблема осталась в таком виде, ксенофобия – это функция, конечно, долгой отсталости, долгой отгороженности.
Ольга Орлова: Изоляции.
Михаил Давыдов: Конечно. В мозгах осталось все то же самое. Потому что, простите, 75 лет советской власти – что, это не было временем ксенофобии?
Ольга Орлова: Означает ли это, что…
Михаил Давыдов: Простите, а что мы видим последние 26 лет? Мы видим попытку советской власти построить рыночную экономику, на мой взгляд.
Ольга Орлова: Означает ли это, что уроки Первой русской революции 1905 года нами так и не пережиты, не преодолены и не усвоены?
Михаил Давыдов: Нет. Это такой частый момент, который бывает в истории, к сожалению. Потому что у людей ощущение, что у них много времени, у них большой запас прочности. Ольга, поверьте, без злобы невозможно читать эти протоколы заседания особого совещания Витте. Уже все, местные комитеты все написали, опубликовали. А тут сливки собрались – министры, видные аграрники. И когда они сидят, самодовольно рассуждают о том, что ничего менять не надо… А уже 9 января прошло.
Ольга Орлова: А часики-то тикают.
Михаил Давыдов: Уже 9 января прошло. Они начали в декабре 1904-го. И весной их царь прикроет. Тоже передаст дело, как сказал Гурко, в усыпальницу. А потом как хрястнет зимой с 1905 на 1906 год, и 2000 помещичьих усадеб будут сожжены. Большой интеллигент русской земли Владимир Ульянов/Ленин напишет: «Крестьяне сожгли в 15 раз меньше, чем должны были сжечь». И только после этого разработанная Гурко подпольная реформа… То есть… станут столыпинской реформой. И найдутся люди, которые сумеют повернуть государство лицом к народу. И это будет иметь успех. Это единственный вариант.
Ольга Орлова: Спасибо большое. У нас в программе был доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Михаил Давыдов. А все выпуски нашей программы вы всегда можете посмотреть у нас на сайте или на ютьюб-канале Общественного телевидения России.