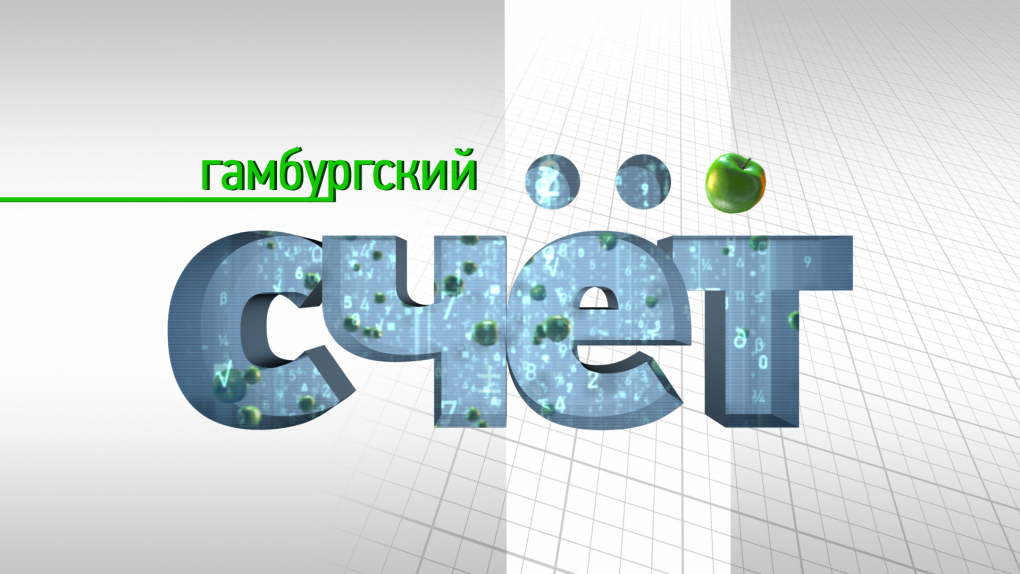Ирина Троцук: Благодаря прессе и кино война стала привычной
https://otr-online.ru/programmy/gamburgskii-schet/irina-trocuk-kak-vyglyadyat-voennye-konflikty-novogo-vremeni-glazami-sociologa-32444.html 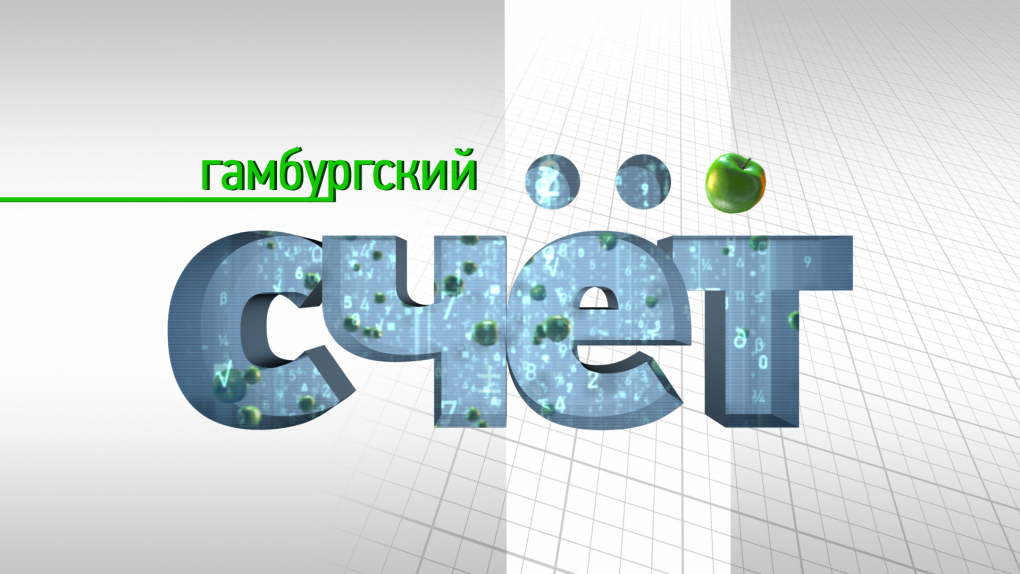
Ольга Орлова: В зоне боевых действий не ведут опросы. Поэтому социологам трудно понять, что происходит с людьми на войне. Но они могут проанализировать, что пишут о войне в прессе и прозе. О том, как выглядят военные конфликты нового времени глазами социолога, мы решили спросить профессора Российского университета дружбы народов Ирину Троцук.
Здравствуйте, Ирина. Спасибо, что пришли к нам в программу.
Ирина Троцук: Здравствуйте.
Ирина Троцук. Родилась в 1978 году в Баку. В 2003 году окончила Российский университет дружбы народов. В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию, в 2015 – докторскую на тему "Анализ текстовых данных в социологии. Основания систематизации концептуальных моделей, методологических принципов и методических решений". Автор более 200 публикаций и 3 монографий. Профессор кафедры социологии Российского университета дружбы народов. Ведущий научный сотрудник Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Ольга Орлова: Ирина, у вас было несколько работ, где вы пытались смотреть на военные действия глазами социолога. Вы анализировали средства массовой информации, потом вы анализировали художественную литературу о современных боевых действиях (последних двух десятилетий). Вообще считается, что там, где идут боевые действия, социологам не место, исследования там не ведут, и это редкая тема. Почему вы решили этим заняться?
Ирина Троцук: Здесь, конечно, есть такой фактор, наверное, личной заинтересованности, потому что события позднего советского периода как-то рядом с моей семьей прошли. Но, конечно, не в плане военных действий. Вообще что люди понимают под войной, как они относятся к трактовке, кто кому что должен говорить, как действовать и как квалифицировать людей, которые оказываются рядом или во время военных действий, мне казалось, что это некоторая проблема. Потому что в разгар Карабахского конфликта были такие… На ночь, допустим, ставишь подушки на окна (стреляют). Правда, никто не квалифицировал тогда эти события как войну, но, собственно, меня родственники перевезли в Северную Осетию. Была как раз ситуация с Южной Осетией. И, допустим, там было так странно, что никто не понимал, почему я уехала и переехала сюда, потому что, в общем-то, войны там якобы не было, и непонятно было, зачем я вообще переезжаю.
И в школе, куда я попала, понятно, что были беженцы из Южной Осетии. "Что случилось? Почему именно ты?". И некоторый диссонанс, что война – это когда все где-то взрывается, что это как-то затрагивает мирных жителей, что происходят эти события, тогда для меня это было странно, хотя я была ребенком.
И второй личный момент, который меня несколько потряс – что, когда я уже училась, у нас политическая социология, конфликтология, все эти вещи, естественно, я смотрела на Нагорно-Карабахский конфликт. И был 1999 год, начало Второй чеченской кампании с некоторыми бравурными моментами. И меня поразило, что как раз на уроке моя подруга, причем, социолог, 3-4 курс, я не помню, это человек с хорошим бэкграундом, она сказала: "Какие проблемы с этой Чечней? Кинуть на нее бомбу – и тема закроется". Для меня это была дикость. Я говорю: "Ты понимаешь, что это люди, это территория, это не то, что бегают какие-то сумасшедшие люди с пистолетами".
Для меня было странно, почему даже у людей, которые достаточно в теме, возникает некая такая иллюзия, что вообще откуда формируются представления о том, что такое война, кто там причастен, и вообще как представление о войне формируется у людей, которые не там, не рядом, не имеют никаких свидетельств очевидцев.
Все опросы общественного мнения такую картинку скорее конструируют. То есть вы спрашиваете людей, они слышат, вы им предлагаете варианты ответов, они вам отвечают. Мне всегда было интересно, есть ли взгляд на войну через очевидцев, то есть, условно говоря, должны же люди слышать других людей, которые представляют войну не с позиции того, что "это политический инструмент, это государство решает какие-то серьезные политические конфликты". Должно быть другое представление о войне, потому что иначе оно мыслится в таких категориях – "забомбить и закрыть тему".
Ольга Орлова: В достаточно юном возрасте, будучи молодым человеком, вы ощутили ту разницу, которая существует в восприятии войны человеком, который там побывал и увидел хотя бы какие-то признаки конфликтных действий, и теми людьми, кто далек от этого, и как по-разному люди это воспринимают. И на личном опыте вы эту разницу ощущаете очень хорошо. Но как социологу методологически эту разницу можно исследовать и показать?
Ирина Троцук: Я вижу единственный путь для социолога. Это ограничение профессии. Иначе надо быть военным корреспондентом, ездить и описывать все происходящее в горячих точках. Это посмотреть, с помощью каких понятий война в средствах массовой информации даже не то, что освещается (понятно, что будут манипуляции в политической пропаганде), а как эти события просто называются. Не в смысле некоторого формирования общественного мнения. Но когда идет волна медийных публикаций, понятно, что люди все время не могут отслеживать и жестко держать себя в каких-то рамках, как это все называется.
Ольга Орлова: Вы хотите сказать, что даже на подсознательном уровне люди без всякого желания манипулировать общественным мнением, когда искренне пишут на эти темы, то и в названиях, в формулировках, которые они используют, появляется отношение к тому, что происходит?
Ирина Троцук: Конечно, здесь просто очень много влияющих факторов. Поэтому мое первое исследование о войне было с помощью метода контент-анализа. Метод для этого и предназначен, что когда у вас идет огромное количество текстов, эти тексты не структурированы, они очень разные по характеру, то есть в них размывается, в них содержится очень много информации, люди теряются, но если провести какой-то контент-анализ и попробовать посмотреть просто, как какие-то события просто называются, уже появится возможность оценить некоторую тенденцию.
Ольга Орлова: Вы первый раз обратились с таким контент-анализом, когда была Первая чеченская кампания, да?
Ирина Троцук: У меня получился временной промежуток с 1994 по 2001 год, но он очень показательный, потому что Первая чеченская кампания и Вторая чеченская кампания очень по-разному освещались в средствах массовой информации.
И второй момент – что Первая чеченская вообще не очень освещалась. Понятно, что у меня несколько смещенная выборка, потому что я не брала все средства массовой информации. Поскольку новостной режим предполагает, что новость публикуют, а потом может что-то поменяться, поэтому я брала только еженедельные журналы, потому что они предполагают, что номер готовится, он выверяется, берутся экспертные оценки. И такая выборка показала, что, во-первых, по Первой чеченской кампании публикаций было мало и все определения были негативные, например, "вооруженные действия". Хотя слово "война" не использовалось. Мне кажется, что в 1990-ые годы слово "война" еще не было так замылено. Потому что сейчас мы живем в эпоху торговых войн, санкционных войн, информационных войн. Слово "война" тогда носило существенно более негативную коннотацию, на мой взгляд.
Ольга Орлова: То есть нужны были очень веские основания, чтобы его употребить?
Ирина Троцук: Да. И поэтому я пыталась посмотреть, насколько различаются вообще характеристики событий в Чечне во время Первой чеченской кампании. Если смотреть на то, как их называют журналисты, представители силовых структур и представители политических партий, других властных… Конечно, сейчас такое провести будет сложно, потому что мне кажется, что у нас из медийной риторики ушли военные. То есть тогда, в 1990-е – начале 2000-х, военные у нас выступали очень часто.
Ольга Орлова: Они много говорили.
Ирина Троцук: Да. И понятно, что особенно по поводу Первой чеченской кампании говорили очень негативно, там было некое такое идеологическое клише, что военным не дали все это завершить, в таком милитаристском ключе. И почему исследование лично мне показалось очень интересным именно с методологических позиций? Потому что мы живем в период победившего лингвистического поворота, когда мы признаем, что мы живем в мире, который конструируем словами. И пока мы что-то не называем, мы не очень понимаем, что это. И название формирует сразу и оценку.
И получилось, что там произошла такая инверсия, что те негативные понятия, которые использовались во время Первой чеченской кампании, они во время Второй чеченской кампании стали позитивными по содержанию, хотя и негативные по сути.
Ольга Орлова: Приведите пример.
Ирина Троцук: Если говорили, что "вооруженные действия" на территории Чеченской республики во время Первой чеченской кампании, то это естественно, был негатив. Особенно когда это сопровождалось еще фотографиями разбомбленного Грозного, это, естественно, вызывало негативную реакцию. А потом оказалось, что вооруженные действия – это по сути плохо, но по функциям это хорошо, потому что "мы боремся с терроризмом, восстанавливаем конституционный порядок на территории Российской Федерации".
То есть если в Первую чеченскую кампанию это была именно характеристика происходящего, "действительно, это плохо - стреляют". Это никому не может нравиться. То во второй раз это преподносилось как средство возвращения мира, стабильности.
Ольга Орлова: Средство достижения справедливости.
Ирина Троцук: Да. Я бы не говорила, что это справедливость. Потому что понятно, что все войны этим и отличаются – что мы боремся за справедливость и добро, порождая еще какие-то худшие моменты.
Ольга Орлова: Страшные трагедии.
Ирина Троцук: Конечно. Поэтому получилось, что этот период, когда шла уже Вторая чеченская кампания, оказалось, что можно по поводу Первой чеченской кампании говорить слово "война", то есть оно стало возвращаться. И поэтому, когда проводишь контент-анализ и все эти статьи пытаешься суммировать с точки зрения того, что происходило, оказалось, что во время Второй чеченской уже можно было спокойно говорить: "Да, там была война".
Ольга Орлова: Когда вы проводили этот контент-анализ, вы говорили, что вы анализировали, во-первых, по большей части еженедельные аналитические журналы (на материале их публикаций), вы говорили, что вы смотрели, как пишут журналисты на войне, какие выражения используют, а также военные и чиновники, представители власти. Расскажите об этом. Как это отличалось, когда описывали Первую и Вторую чеченскую кампанию, что и у кого менялось в риторике?
Ирина Троцук: По поводу Первой чеченской кампании все очень дружно говорили мало и говорили очень негативно. То есть, скажем, поскольку была не очень понятна позиция властей по этому поводу, причем, когда я говорю, что именно высказывания военных, политиков и журналистов, то есть там были огромные материалы… Материалов было мало, но если это был материал, то это был большой развернутый материал с огромными цитатами. То есть это именно были выдержки из фраз. Было не очень понятно всем, что происходит.
Ольга Орлова: И это было общее непонимание?
Ирина Троцук: Был общий негатив. Все оценки исходили из того, что конкретно происходит: люди с оружием, жертвы. Приводились статистические данные, сколько погибло.
Ольга Орлова: Что это трагическая ситуация.
Ирина Троцук: Да.
Ольга Орлова: И все три группы сходились в оценках, что то, что происходит – это трагедия.
Ирина Троцук: Да, конечно. Естественно, там были некоторые различия акцентов. Потому что журналисты по определению пишут больше про мирное население, военные пишут про вооружения, про возможности каких-то действий. Поэтому, конечно, с 1999 года риторика очень меняется, потому что стала понятна очень четко ориентация властных структур, что мы там делаем.
Ольга Орлова: Власти дали сигнал, как они меняют отношение к происходящему.
Ирина Троцук: Конечно. Это четко называлось "восстановлением конституционного порядка на территории Чеченской республики". Еще здесь был такой контраст всегда, что сейчас мы решаем такие задачи, скажем, укрепление государственности и наведение социального порядка. А вот тогда, в Первую чеченскую кампанию, это все было плохо, война, непонятно, хаос. И этот контраст был. Поэтому очень четко: да, вот сейчас у нас антитеррористическая операция, а вот тогда была война. Поэтому слово "война" стало очень часто появляться по отношению к характеристике Первой чеченской.
Когда происходит вооруженное столкновение, всегда кто-то использует слово "война". И очень часто в метафорическом ключе. Потому что есть устойчивое название "Нагорно-карабахский конфликт", но у него есть метафорическое название – "война камней". Поэтому ко Второй чеченской кампании, по крайней мере в этот период, потому что я не могу говорить за последующее время, использовалось именно слово "кампания", "операция". Но слово "война" здесь просто не работало. Особенно на контрасте с предыдущими событиями.
Ольга Орлова: Вы говорите "Первая чеченская война" для себя?
Ирина Троцук: Поскольку я занималась именно контентом, получается, что все-таки устойчивое, особенно на тот период, было "Первая чеченская кампания", "Вторая чеченская кампания".
Ольга Орлова: А вы про себя как говорите? Просто я скорее скажу "война".
Ирина Троцук: Сейчас, наверное, да, две войны. Когда вы говорите слово "война", война – она всегда между кем-то. Получается, что это Российско-Чеченская война. Проблема как бы подвисает в воздухе, потому что вы вынуждены дополнять – а война кого с кем? И поэтому слово "война" здесь действительно отражает суть. Но если попытаться порепетировать эти события в истории России, тут возникает очень много подводных камней, идеологически, может быть, не очень правильных, потому что это как бы Российско-Чеченская война. Но Чечня – часть России.
Ольга Орлова: По действиям это настоящая война. Но по конфликту… Кстати, отрефлексирован ли этот конфликт? То есть можем ли мы сегодня сказать, между кем и кем был этот конфликт?
Ирина Троцук: Я боюсь, что мы тут уйдем в сферу таких политизированных моментов, потому что по поводу первого конфликта до сих пор я не могу сказать, что эта тема табуирована, но она очень сложная.
Ольга Орлова: Она не описана, исторически не осмыслена.
Ирина Троцук: Здесь, я бы сказала, очень много разных оценок. И они все радикально политизированы. То есть "борьба за независимость Ичкерии"… Здесь же смотря с каких позиций вы на это смотрите… Когда я слышу политиков, которые об этом вспоминают, все-таки они предпочитают слово "кампания". Потому что антитеррористическая операция – это вещь вторая. А слово "операция" к Первой чеченской войне тоже очень плохо подходит. Разбомбили город. Но это явно не антитеррористическая операция, да?
Ольга Орлова: Вы провели контентный анализ, смотрели на это, читали прессу. Но все-таки одно дело – проводить контентный анализ, когда читаешь прессу, а другое дело – когда читаешь художественную литературу. Почему вы решили таким же образом глазами социолога читать современную литературу о войне.
Ирина Троцук: Я, честно говоря, начала с Прилепина "Санькя", потом почитала "Патологию", а потом уже как раз вышла книга Бабченко. Потом был этот дикий скандал со Светланой Алексиевич. Ее "У войны не женское лицо", "Последние свидетели", "Цинковые мальчики" – это все военные моменты. И вот свидетели событий могут производить те же повествования очевидцев. И они проясняют нам основы организации общества не в меньшей степени, чем когда нам говорит за кафедрой какой-то замечательный профессор. Поэтому нужно не просто ходить, у людей брать интервью. Это хорошо, когда люди про это пишут. Поэтому это социологическая проблема - "а кто должен рассказывать о войне?"… И здесь есть этот компонент… Ведь скандалы по поводу Нобелевской премии шли в литературоведческой плоскости. А если их убрать за литературоведческую плоскость, это просто замечательная подборка свидетельств очевидцев, которая, конечно, не может претендовать на статус устной истории, но, мне кажется, если говорить о военной социологии (микроподход), это самое оно.
Ольга Орлова: То есть вы хотите сказать, что для метода "oral history", для "устной истории" этого недостаточно, если мы берем художественные тексты, но этого достаточно для того, чтобы социологи померили какой-то градус.
Ирина Троцук: Конечно, здесь есть такой момент, что когда люди что-то публикуют, то есть ориентируются на большую аудиторию, там тоже есть такие компоненты… Но мне очень нравятся и Бабченко, и Прилепин, которые по поводу этих своих военных книг прямо говорят: "Это не автобиография". То есть "ребят, вы читайте, понятно, что это автобиографический опыт, но это не…".
Ольга Орлова: Они настаивают на художественности текста.
Ирина Троцук: Да, да, конечно. А вот у Алексиевич позиция другая. И здесь, опять же, для военной социологии, мне кажется, это очень хороший ресурс, это попытка посмотреть на то, что чувствует человек, который там находится. И вы начинаете чувствовать, как человек конструирует себя на войне, как он конструирует образ… Вообще что происходит. Как он это называет, что он чувствует, на чьи определения он опирается, на кого он вообще ссылается. То есть это именно такая попытка ухватить, как сейчас модно говорить, феноменологию жизни. Собственно, людей надо слушать. Это такая проблема.
Другой вопрос, что сейчас я бы такой контент в жизни не провела, как раньше делала, потому что все-таки мы сейчас переживаем то, что называется "визуальный поворот", и все-таки, если слово "война" немножко лексически замылилось... Я помню, что когда я училась в школе, была группа "Агата Кристи", и там песня "Я на тебе, как на войне".
Ольга Орлова: Это так обсуждалось. И это казалось таким вызовом.
Ирина Троцук: Конечно. И поэтому это слово "война"… Причем, и в западной литературе, и в российской, оно очень замылилось.
Ольга Орлова: А нет ощущения, что это говорит о том, что немножко война стала нормой, она стала ближе к норме, что воевать – нормально? Воевать экономически, политически, в буквальном смысле.
Ирина Троцук: Я, конечно, считаю, что, к сожалению, некоторая такая атмосфера ненависти в обществе накаляется. По разным причинам.
Ольга Орлова: Воинственности.
Ирина Троцук: Мы сейчас все сидим в интернете. И накал дискуссий по куче вопросов просто поражает. Потому что люди начинают именно воинственно друг на друга кидаться. Есть такой компонент.
Если мы про героя говорим архетипически, у нас, конечно, сейчас такой бум кинематографа. Здесь тоже массовая культура, визуальная культура и прочие вещи. Мне кажется, что все-таки война несколько… Мне кажется, у Прилепина это была некая легкая романтизация. А кинематограф – это такая метафора чего-то красивого.
Ольга Орлова: Еще больше героизирует войну.
Ирина Троцук: Он не что героизирует, а он именно ее мифологизирует. Потому что вы говорите - "Звездные войны"… Потом, очень много социальных утопий, в которых война чего-то где-то, и мы строим общество заново. "Эквилибриум", есть масса фильмов про это, когда что-то происходит. Причем, война тотальная. Вот просто все пропало. И давайте потом заново конструировать социальность.
Ольга Орлова: Война глазами Бабченко и война глазами Прилепина – в чем разница?
Ирина Троцук: Понятно, что они все-таки в разном статусе участвовали. Все-таки Бабченко первый раз был по призыву. Прилепин здесь, конечно, раскрылся в большей степени. Бабченко не пишет в таком ключе.
Ольга Орлова: Вы обоих считаете замечательными в этом смысле настоящими военными писателями? Правильно я понимаю? Судя по той рецензии, по той работе, которую вы написали, это настоящая, качественная военная литература. Но в чем разница в восприятии, в подходах авторов? Мы же все-таки знаем, что они очень разные.
Ирина Троцук: Это понятно.
Ольга Орлова: Это талантливые писатели, но очень разные.
Ирина Троцук: Конечно. Мне слог нравится. Мне кажется, у Прилепина есть все-таки некоторая романтизация войны. Потому что все-таки человек, который войну не романтизирует, на Донбасс бы не поехал. Мне кажется, здесь есть некоторый такой момент. Но мне очень нравится, как он, по-моему, в "Патологиях" пишет, что "собирался писать книгу про любовь, несколько лет подумал – и получилось про войну".
И эти его описания каких-то любовных моментов. Мне, например, Прилепин нравится безумно. Мне кажется, что я в современной литературе такого не знаю. Как-то он умеет это ухватить, особенно когда это все посреди непонятно происходящих военных действий.
Ольга Орлова: Любовь среди военных действий.
Ирина Троцук: Он как-то эмоционально это очень хватает. Причем, мне кажется, они похожи в том, что они войну описывают обыденно-констативно. То есть это описание - "побежали", простые мужские разговоры, что происходит. Конечно, у Бабченко это более документальная книга о войне. Он и позиционирует себя как военный журналист. Как писатель он себя, мне кажется, не позиционирует ни в коей мере. И, конечно, там мерзостей больше обыденных, причем, непонятно, мерзостей собственно войны или мерзостей организаций, институтов, которые эти войны ведут и организуют. Потому что понятно, что там очень страшное описание этих взрывов, кусков мяса и прочих вещей. Но это настолько… с этими ужасами казарменной жизни и что происходило внутри этих военных сообществ в то время….
Ольга Орлова: Война внешняя и война внутри армии, то, что постоянная конфликтная обстановка для самих военных.
Ирина Троцук: Да. Понимаете, я здесь не критик. Это моя частная позиция в связи с тем, что я начитывала много и научных вещей про войну и о войне. А все-таки Бабченко более лично к этому относится. И у него очень много таких утверждений, что чтобы вернуться с войны, надо написать, что кто был на войне, никогда уже с войны не вернется. Но он все-таки кладет в последовательность таких… Он также пишет: "Человек, который был на войне и сидел в тюрьме – другие люди, и это надо понимать". И поэтому у него такой посыл, что "я это все выплесну". Это странно. Он был в куче военных конфликтов. И вдруг он публикует в 2005 году книгу про Чечню. И когда я покупала, я не думала, что это будет книга опять про чеченские кампании. Причем, он начинает как раз со своего призыва, это такие далекие моменты, хотя был "Алхан-Юрт" в 2006 году, в 2015 году опять вышла книга про войну. Все-таки это больше документалистика. Это больше похоже на то, что пишет Светлана Алексиевич, когда люди рассказывают… В психологии это называется экстернализация, может быть. Что ты это проговариваешь, ты от этого дистанцируешься. И тебе, наверное, дальше как-то проще и понятнее жить.
Мне кажется, что все-таки самопозиционирование – это больше журналистика, это больше нарратив очевидца. А все-таки Прилепин – это больше художественная литература. И его отношение больше как романтизацией проявляется.
Ольга Орлова: Спасибо большое. У нас в программе была доктор социологических наук, профессор Российского университета дружбы народов Ирина Троцук.