Михаил Котюков: В некоторых институтах нам угрожали забастовкой, а по результатам они уже и так бастуют лет десять
Михаил Котюков: В некоторых институтах нам угрожали забастовкой, а по результатам они уже и так бастуют лет десять
https://otr-online.ru/programmy/gamburgskii-schet/mihail-kotyukov-v-18888.html 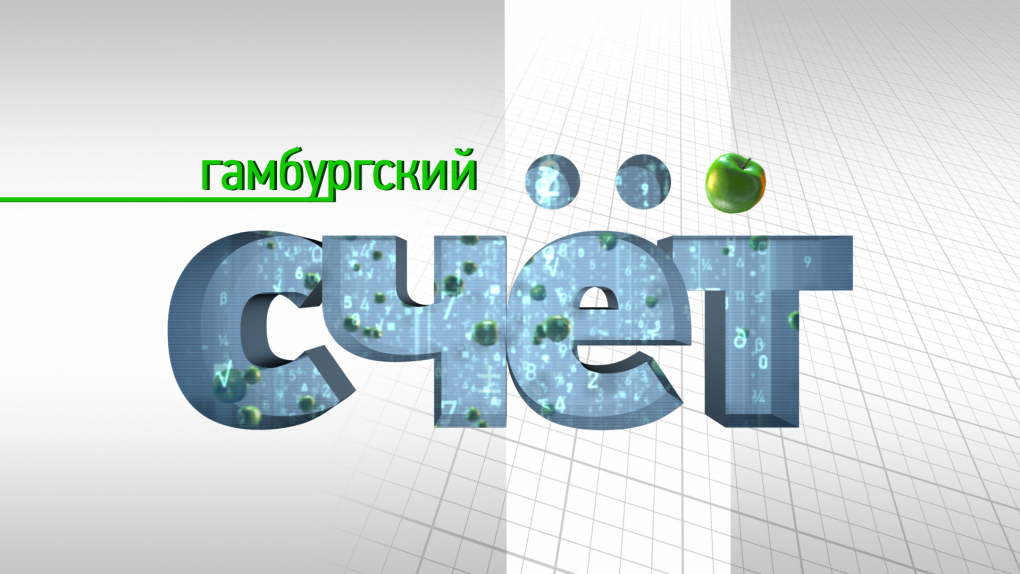
Ольга Орлова: Новые принципы управления академическими
институтами действуют уже два года. Но далеко не все вопросы удалось решить.
Как будет начисляться зарплата ученым? Зачем институты объединяют в крупные
научные центры? И удастся ли сохранить академическую аспирантуру? Об этом
накануне дня российской науке мы решили спросить по гамбургскому счету
руководителя Федерального агентства научных организаций Михаила Котюкова.
Здравствуйте, Михаил Михайлович. Спасибо, что пришли к
нам в студию.
Михаил Котюков: Здравствуйте.
Михаил Котюков, родился 21 декабря 1976 года в
Красноярске. В 1999 году окончил Красноярский государственный университет по
специальности "Финансы и кредит". С 2000 по 2003 годы работал в
главном финансовом управлении администрации Красноярского края. В 2003 году был
назначен заместителем начальника главного финансового управления администрации
Красноярского края. В 2005 году – первым заместителем руководителя департамента
финансов администрации Красноярского края. С 2007-го по 2010-ый работал на
руководящих постах – заместителем губернатора и министром финансов
Красноярского края. В 2012 году назначен на должность заместителя министров
финансов Российской Федерации, с октября 2013-го руководит Федеральным
агентством научных организаций.
О.О.: Вот уже два года вас спрашивают о том, как вы
делите полномочия с руководством академией. И я не буду об этом вас спрашивать,
потому что появилась новая тема о том, как вы все вместе, уже несколько
ведомств, которые управляют российской наукой, справляетесь с надвигающимися
трудностями? Есть трудности?
М.К.: Я не могу сказать, что очень легко все
получается. Наверное, невозможно в этих условиях принимать какие-то легкие
решения. Все решения должны быть максимально выверены, очень четко и определенно.
На сегодня по проектировкам бюджета 2016 года в основном определились. В
меньшей степени уменьшается так называемое базовое финансирование государственного
задания в силу разных причин. Нам удалось пока этого баланса достигнуть. Другое
дело, что те научные задачи, которые стоят, их, конечно, нужно выполнять в
полном объеме. Где-то искать возможность разумной экономии, где-то искать
возможность сделать чуть больше за те же деньги или столько же за чуть меньшие
деньги. Но в целом в стране такая ситуация не является особенностью только
академического сектора.
О.О.: А вы уже понимаете, что будет ли и насколько ли
будет сокращен уже бюджет 2016 года?
М.К.: Мы пока работаем в пределах тех цифр,
которые сейчас доведены. И как в прошлые годы, мы в течение года всегда
старались изыскивать дополнительные ресурсы. Это получалось в значительной
степени. Думаю, что и 2016 год будет не исключением. Хотя, безусловно, мы
понимаем, что бюджетные ресурсы сокращаются. Но в то же время нам необходимо
будет привлекать в том числе и внебюджетные средства.
Все
организации готовили собственные планы оптимизации, повышения эффективности.
Эту работу мы будем продолжать. Где-то успехи получше, где-то похуже. Я могу
сказать, что у нас уже есть коллективы, которые те самые 200% по заработной
плате выполнили.
О.О.: Это вы имеете в виду 200% по заработной плате –
указы президента. Повышение зарплаты научных работников.
М.К.: Конечно. Есть коллективы, в которых этот
показатель уже достигнут. Это не означает, что нужно остановиться. И там есть
планы по дальнейшему развитию научной школы, базы, деятельности. Мы это все
будем поддерживать. Это как раз те самые сильные коллективы, которые даже в
таких условиях не боятся взять на себя ответственность за решение важной
задачи.
О.О.: Не так давно прошел совет по науке при президенте
Российской Федерации. И там дважды прозвучала такая цифра – 150 научных
организаций. 150 научных центров обеспечивают у нас главную научную
публикационную активность всей страны. Как родилась эта цифра, и что это
означает? Каковы последствия того, что ее назвали несколько раз?
М.К.: В основе этой цифры, конечно, должна
лежать статистическая база. Я думаю, что исходя из доли публикаций, которые
приходятся на академический сектор, вузовский сектор, сектор научных
организаций иной подчиненности, доля наших организаций должна быть больше
половины в этом перечне. Другое дело, что эта цифра лишь некоторым образом
фиксирует сегодняшнее текущее состояние, что на долю 10% научных организаций
приходится львиная доля всего научного публикационного результата.
О.О.: Потому что всего у нас три тысячи с лишним этих
научных…
М.К.: Более трех тысяч с лишним организаций.
О.О.: Скоро примерно 3500.
М.К.: Там чуть больше тысячи находится в
государственном секторе. Поэтому примерно 10% всего государственного сектора
науки дают львиную долю научных результатов именно фундаментального характера.
Это речь шла о публикациях.
Речь
идет скорее всего о том, что, опираться на возможности, на опыт этих
организаций, мы должны сейчас при формировании всех наших планов. Это та
планка, на которую должны ориентироваться и остальные.
О.О.: Означает ли это, что те, кто не попадает в эти
150 научных коллективов, либо они будут поглощены ими. либо просто закрыты и
сокращены. То есть что это некий сигнал к новой, очень жесткой реформе и
реструктуризации научных организаций.
М.К.: Я считаю, что вопрос реструктуризации
напрямую не связан с темой, которая обсуждалась на совете. Реструктуризацию мы
проводим второй год. Там есть свои плюсы, есть определенный опыт, который мы
накопили. Я считаю, что из тех проектов, которые были уже поддержаны и сейчас
реализуются, многие отвечают требованиям формирования именно ведущих
организаций, которые если вчера еще и не могли быть причислены к этой
категории, то с учетом объединения интеллектуального потенциала, научной
инфраструктуры, различных возможностей, в том числе поддержки и регионов, и
более системной организации с реальным заказчиком по прикладным работам, имеют
все шансы стать ведущими научными центрами в стране.
Поэтому
мы будем дальше эту работу продолжать. Конечно, принципиально важным является
то, кто в этой ситуации может взять на себя ответственность за решение крупных
задач. И, конечно, такие коллективы, которые за это берутся, должны иметь
соответствующий потенциал. И именно, скорее всего, эти коллективы смогут
претендовать на дополнительную и государственную поддержку, и дополнительные
заказы от реального сектора экономики просто потому, что они имеют потенциал
выполнить эти сложные задачи. Передавать средствам коллективам, которые не
имеют соответствующих компетенций или не имеют соответствующей структуры, в
первую очередь интеллектуального потенциала – это может закончиться просто
неэффективным использованием средств, когда средств становится все меньше и
меньше.
О.О.: Есть разные стратегии в сложной ситуации.
Например, появилась идея о том, что нужно было бы около 10% с наукой передать
на новую программу по конвергентным технологиям, потому что, опять-таки, сейчас
кризис и надо что-то делать прорывное. И вот прорывное там, и передадим туда.
Есть другая стратегия, о которой говорил Владимир Евгеньевич Фортов на совете, -
о том, что нет, нужно все-таки добиться нормальной реализации уже действующих
программ. Есть разные точки зрения. Как вы считаете, в той сложной ситуации, в
которой оказалась российская наука с точки зрения денег, как правильно?
М.К.: Если говорить с точки зрения именно
антикризисного управления, то, конечно, нужно из кризиса выходить в обновленном
состоянии, более качественном, сильном, чем это было до этого. Кризис – в
первую очередь испытание, которое должно преодолеваться. В этом смысле нужно
найти разумное соотношение. Во-первых, нужно определить наиболее перспективные
точки роста, которые есть в текущих условиях, и их в первую очередь поддержать
теми ресурсами, которые, конечно же, ограничены. Но потратить их…
Знаете,
недавно услышал такую фразу на одном из научных мероприятий - "инъекция в
протез". Потратить на инъекцию в протез – это просто катастрофическая
ошибка. Поэтому мы должны в этой ситуации найти оптимальное соотношение, как
распорядиться ресурсами именно в таких условиях.
О.О.: На этом президентском совете по науке Владимир
Фортов сказал, что совместно с ФАНО мы хотели бы продлить мораторий.
М.К.: Вопрос – что понимать под мораторием?
Мораторий для нас в первую очередь – это возможность провести структурные
преобразования в академическом секторе. Для того чтобы общие контуры этого
сектора не нарушались, пока мы внутри не провели окончательное определение
лидеров, определение ключевых направлений, какие-то, в том числе юридические,
реорганизационные процедуры и так далее.
Но
наша позиция заключается в том, что внешние рамки должны быть сохранены, но мы
должны воспользоваться этой возможностью, для того чтобы сделать внутреннюю
систему наиболее оптимальной и соответствующую вызовам сегодняшнего времени.
О.О.: У вас одинаковое понимание с президентом РАН, что
такое мораторий? И солидарны ли вы с ним в этом смысле? Вы вместе просили
Путина об этом? Или все-таки это его пожелание?
М.К.: Я думаю, что мы вместе будем это
выполнять. Тем более, что Владимир Владимирович отреагировал на эту просьбу. Он
четко сказал, что мораторий будет продлен. Но мы должны завершить процедуру
преобразований.
О.О.: Усилия ФАНО по сохранению аспирантуры в
институтах ФАНО были очень высоко оценены экспертами, учеными, и все очень
поддерживали вас. Можно ли будет писать диссертацию в институтах ФАНО?
М.К.: Можно и нужно. Большинство институтов,
подведомственных Федеральному агентству научных организаций, уже прошли все
необходимые процедуры лицензирования и аккредитации своих программ.
Другое
дело, что мы в этих планах не останавливаемся. И у нас есть два перспективных
проекта, над которыми мы сейчас продолжаем работу пока на уровне дискуссий. С
одной стороны, крупные институты, которые исторически имели серьезную и
образовательную инфраструктуру, и серьезные отношения с учреждениями высшего
образования, сегодня всерьез говорят о необходимости подготовки специалистов по
программам магистратуры. Мы считаем это достаточно перспективным направлением и
планируем в этом году сделать определенные шаги.
Следующее
направление. Для тех организаций, которые не являются крупными и не имеют
большого количества аспирантов, тема магистратуры не является определяющей и
как таковая тема развития вообще самостоятельных образовательных программ не
является принципиально важной.
В
этом смысле я думаю, что мы вместе с Министерством образования как органом,
осуществляющим госполитику в этом направлении, дополнительно продолжим
консультации на предмет возможной дополнительной регламентации деятельности
аспирантуры в таких организациях.
О.О.: Михаил Михайлович, а как финансово это все
обеспечивается? Ведь мы знаем: сегодня ситуация печальная. Что дом аспиранта и
студента в Москве, плата 8000 в общежитии. Но при этом аспирантская стипендия –
это 3000. И это совершенно невозможно. Подразумевает ли это другое финансовое
обеспечение для аспирантских программ в институтах ФАНО?
М.К.: Во всех институтах, где идет подготовка
аспирантов, есть специальные средства для реализации этих образовательных
программ и для выплаты стипендий. Конечно, понятно, что сама по себе стипендия
имеет достаточно скромный размер. Еще раз повторю, опыт всех наших ведущих
центров – что аспирант с самого начала работает в институте, фактически уже
непосредственно в научном коллективе. И в этом смысле он получает определенную
доплату. В этом смысле он приобщается непосредственно уже к научной
деятельности, работая в коллективе, ведя конкретное исследование и готовя на
этом материале. конечно же, свою кандидатскую работу.
Поэтому
все, что касается работы домов аспирантов и сотрудников, там есть очень много
подводных камней. Была введена некая система академического бронирования. Мы
провели фактически инвентаризацию, выяснили, что фактическое проживание
существенно меньше, чем бронирование по многим организациям. В этом смысле
сейчас начата процедура перезаключения договоров. При этом договоры заключаются
между балансодержателем, фактически домом аспирантов, и организацией, в которой
проходит обучение или работает аспирант либо молодой ученый.
И
в этом смысле там нет прямых финансовых взаимоотношений между этим домом
аспирантов и самим проживающим. Это все идет опосредованно через институт. Мы
анализируем ситуацию по каждой такой организации. И я вам точно совершенно могу
сказать, что суммы, которые фигурируют в этих взаимных договорах, они в
бюджетах эти научных институтов совершенно точно не являются определяющими.
О.О.: Сформированы ли новые принципы расчета оплаты
научных работников?
М.К.: Систему оплату труда мы практически
завершили формировать в 2015 году по всем подведомственным нам организациям. И
мы даже уже ближе к завершению года подписали трехстороннее соглашение с
профсоюзами о том, что мы практически все вопросы урегулировали. По сути мы,
конечно, вместе с профсоюзами, и я здесь еще раз хочу поблагодарить
представителей, которые в очень тесном контакте и на самом деле серьезно
помогают найти правильные соотношения, правильные модели. Я рассчитываю, что и
первичные организации непосредственно уже в научных коллективах будут эту
работу дальше проводить. Потому что для тонкой настройки всегда требуется
определенное время. Уже конкретно какой сотрудник сколько может получать – это
должно определиться в приказе…
О.О.: Означает ли это, что возникает большая
финансовая свобода внутри научных коллективов по новым нормам?
М.К.: Безусловно. Я много раз говорил за эти 2,5
года работы, что в академическом секторе, несмотря на изменившееся
законодательство, многие нормы продолжали существовать, не имея никакого под
ними юридического обоснования. Академия наук утверждала штатные расписания,
выделялись какие-то ставки, как-то все это согласовывалось. Для этого не было
никаких полномочий уже в тот момент времени. Соответственно, сегодня
руководитель научной организации…
О.О.: Вы хотите сказать, что это в административном
смысле был такой город Зеро, который застыл?
М.К.: Я думаю, что это просто остались
некоторые, может быть, по инерции процессы, которые были до 2010 года, когда
для этого действительно были основания. Соответственно, на сегодняшний день в
самой организации определяется штатное расписание. Безусловно, оно должно соответствовать
различным нормативным документам, но лишь соответствовать им. В самом
учреждении определяется положение об оплате труда, в том числе о премировании
сотрудников и так далее. И как раз здесь принципиально важно это делать сообща,
внимательно общаясь с коллективом, с профсоюзной организацией, искать то самое
оптимальное соотношение, чтобы это было: а) прозрачным, б) для всех понятным и
стимулировало как раз повышать эффективность работы.
Правительством
было установлено ограничение по заработным платам руководителей всех бюджетных
учреждений. Соотношение не больше, чем 1:8 со средней зарплатой в коллективе. У
нас очень многие руководители имели превышение этого показателя.
Соответственно, также мы наводим порядок, и здесь, конечно, есть снижение
зарплат директоров. Многие этим недовольны. Но это требование законодательства.
Нужно работать над повышением средней зарплаты в коллективе. Тогда растет и
максимальная средняя зарплата руководителей. В общем, мы ввели формализованный
подход, и формулы учитывают это напрямую.
О.О.: Та инициатива, о которой вы уже говорили на
пресс-конференции перед Новым годом, но было бы очень полезно нашим
телезрителям это проговорить, инициатива Министерства финансов о так называемых
нормо-часах ученых. Как это будет рассчитываться, кто будет определять? Вы уже
поняли, с кем вы это будете делать? Просто расскажите об этом подробнее.
М.К.: Мы к этому проекту готовимся уже два года.
И мы это делаем сообща. У нас есть рабочая группа, в которой участвуют
представители президиума Российской академии наук. Мы действуем очень
аккуратно, взвешенно. Проанализировали на сегодняшний день фактические затраты
в наших организациях те обоснования, которые сами институты подают ежегодно к
обоснованию бюджетных проектировок. И далее мы сгруппировали, исходя из
тематики исследований, понимая, что издержки в разных областях разные,
сгруппировали на сегодняшний день 30 таких групп. Соответственно, по каждой из
этих 30 групп уже внутри сейчас проводим расчеты, для того чтобы каким-то
образом усреднить эти показатели. Мы должны к бюджетному 2017 году подойти как
раз с показателями условной стоимости тематики исследования. Это очень сложный
вопрос.
О.О.: То есть подразумевается, что, допустим,
исследование археолога стоит столько-то, исследование физика-экспериментатора
столько-то, а физика-теоретика по-другому.
М.К.: Подразумевается, что тематика, например,
по одной области наук будет стоить столько, исходя из фактического уровня,
который сложился. Тематика по другой области стоит столько-то. Следующий элемент
нормирования – сколько нужно физических единиц, человеко-часов, человеко-дней и
так далее, чтобы по каждой тематике отработать. Это тоже вопрос важный. И нам
тоже по нему нужно будет найти соотношение. Потому что есть и сегодня определенные
перекосы. Это сложный процесс. На сегодня пока никаких решений по нему не
принято, кроме одного, что мы идем по этому пути, будем очень аккуратно в
течение 2016 года это отрабатывать, безусловно, в постоянном режиме, общаясь не
только внутри рабочей группы с узким кругом представителей, но и, как мы это
уже научились делать, выезжая в регионы, проводя соответствующие семинары,
показывая все эти расчеты. Это все будет абсолютно публично, это все будет абсолютно
прозрачно. И каждый будет понимать, какие цифры в этих материалах находятся.
Я
ведь хочу сказать, что это не является абсолютной новацией. В программе
фундаментальных исследований Академии наук, которую мы призваны вместе с
институтами выполнять, в первую очередь институты, а мы должны создавать для
этого условия, там все научные темы стоят с объемом финансирования. То есть эти
средства как-то были посчитаны. Соответственно, мы считаем, что есть та база
расчетов, которую мы должны, может быть, просто немного усовершенствовать,
сделать ее понятной для всех.
О.О.: Просто любой человек, который делает какой-то
проект, научный или творческий, ты его спрашиваешь: сколько денег тебе на это
нужно, чтобы запустить такой-то прибор, провести такое-то исследование, любой
практик понимает пределы. И в этом смысле это, конечно, неудивительно. Тут
вопрос, наверное, больше беспокоит, именно как зарплата будет рассчитываться.
Потому что, например, знаете, я не стала сейчас вам выписывать обсуждения в
социальных сетях, которые я регулярно читаю. Приходят документы из ФАНО, и потом
ученые это на Facebook активно обсуждают и комментируют. И когда приходит
документ, где нужно сообщить о том, сколько за каким компьютером какой ученый
сидит и сколько часов он там проводит, это, конечно, пугает.
М.К.: Мы должны сейчас, особенно в условиях
такой экономической ситуации и бюджета, все больше говорить о бюджетировании не
процесса, а результата. Поэтому есть научная задача, которая как-то обсчитана.
Она обсчитывалась и до этого времени. Мы просто сейчас должны это
формализовать, чтобы цифра появлялась не по степени близости к тому, кто
распределяет ресурсы, а по понятной формализованной методике.
О.О.: Год назад мы с вами беседовали. И я вам говорила,
что есть такая проблема, на которую уже много лет директора академических
институтов жаловались, что если им нужно взять на постоянную работу сотрудника,
который не является гражданином Российской Федерации, как правило, речь идет о
молодых талантливых сотрудниках стран СНГ, но нет такой возможности,
законодательно это было невозможно. Вы год назад говорили, что эта проблема
решается и что вы над ней работаете. Как сейчас обстоят дела?
М.К.: Я могу сказать, что вопрос уже имеет
практическую реализацию. Мы благодаря взаимопониманию с Федеральной
миграционной службой смогли сегодня организовать практическую работу, есть
определенная процедура, которая позволяет упростить получение гражданства в
таких случаях. И у нас уже на сегодняшний день 7 научных организаций, причем,
география очень широкая (это Урал, это Сибирь, это Кавказ, это Дальний Восток),
уже имеют практически реализованные такие проекты.
О.О.: Вы ездили очень много по стране. Вы видели разные
научные институты. Вы для себя по каким приметам понимаете, что здесь есть
научная жизнь?
М.К.: Если видно, что человек рассказывает о том
проекте, который он ведет, с интересом, у него горят глаза. Здесь же молодежь,
которая может подхватить и часть доклада сделать самостоятельно, ты понимаешь,
что здесь действительно ведется серьезная работа и это живой коллектив, где
думают о смене кадров, где думают о перспективности разработок, где думают о
том, чтобы всегда удерживать эту научную школу на пике тематики и стараться
заглядывать за горизонт. Это видно. Иногда, бывает, делают сообщения,
рассказывают об институте. И видно, что докладчику это самому особо не
интересно. И несколько вопросов вязнут сразу в обсуждении. Поэтому, скорее
всего, и дальше начинаем погружаться в публикации, в контракты.
О.О.: То есть вы подходите к этому не как финансист, не
как менеджер, а как психолог?
М.К.: И так, и так. У нас было несколько напряженных
ситуаций. Нам говорят: если что-то не решится с финансированием, институт
выйдет на забастовку. Мы поднимаем публикационные материалы, хоздоговорные.
Такое ощущение, что институт уже лет 10 уже находится в состоянии забастовки.
О.О.: Я знаю, что Лев Матвеевич Зеленый, вице-президент
РАН, читал лекцию вам и Андрею Силуанову, рассказывал об устройстве нашей
Вселенной.
М.К.: Мы были в Министерстве финансов на
площадке. Там была у нас совместная практика. Лев Матвеевич прочитал совершенно
замечательную лекцию. Мы договорились, что этот проект мы будем продолжать.
О.О.: Это была чья идея, чья инициатива, и как вам это
в голову пришло?
М.К.: Эта идея пришла в голову, еще когда я
работал в Министерстве финансов и по роду деятельности тогда курировал в том
числе и вопросы фундаментальных исследований.
О.О.: И устройства Вселенной.
М.К.: К устройству Вселенной как практическому
вопросу мы подошли уже, конечно, со Львом Матвеевичем, когда непосредственно
решили обсудить вопрос, что можно организовать серию таких обсуждений.
Соответственно, было действительно интересно. И мы договорились эту практику
продолжить.
О.О.: Спасибо большое. У нас в программе был
руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.