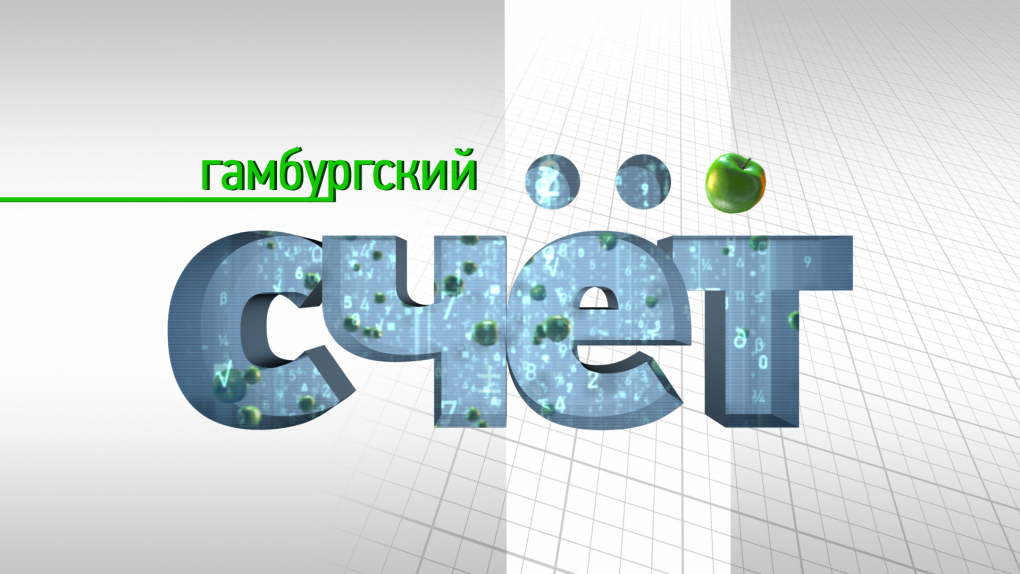Ольга Добровидова: Новые тренды в климатической политике — не есть мяса и пересесть на велосипед
https://otr-online.ru/programmy/gamburgskii-schet/olga-dobrovidova-novye-trendy-v-klimaticheskoy-politike-ne-est-myasa-i-peresest-na-velosiped-35178.html 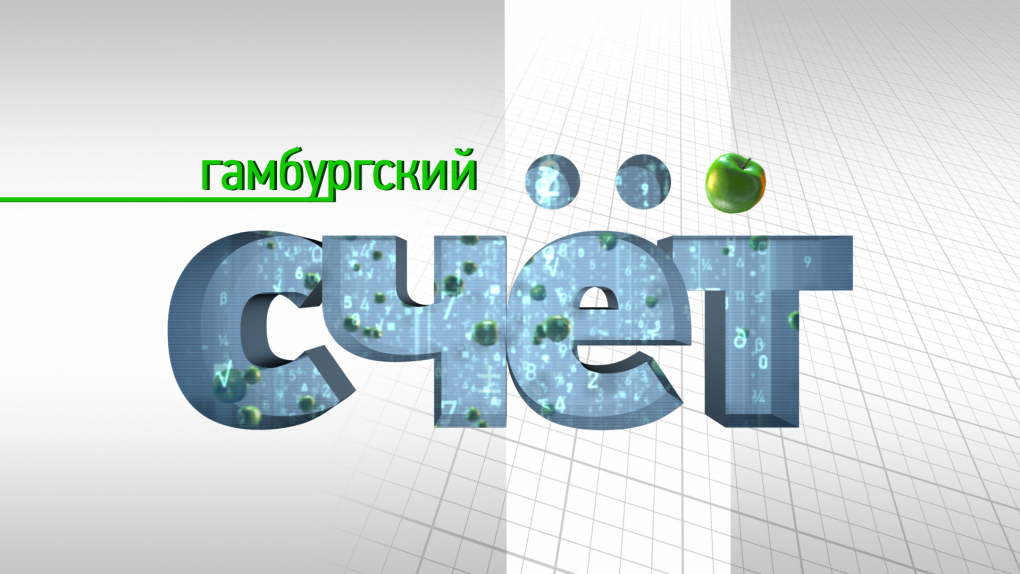
Ольга Орлова: Протесты против топливного налога во Франции и сокращение финансирования исследований по климату в США, развивающиеся страны, требующие ответственности со стороны развитых стран – эти и многие другие острые вопросы обсуждались в декабре 2018 года в Польше на переговорах ООН по климатическим изменениям. На них побывала научный обозреватель N+1, преподаватель научных коммуникаций университета ИТМО Ольга Добровидова. С ней мы беседуем по гамбургскому счету. Здравствуйте, Оля. Спасибо, что пришли к нам в студию.
Ольга Добровидова: Спасибо, что пригласили.
Ольга Орлова: Ольга Добровидова. Стипендиат научной журналистики Массачусетского технологического института. Автор публикаций в международных журналах «Nature», «The Smog», «Climate Home». Научный обозреватель издания N+1, преподаватель научных коммуникаций университета ИТМО.
Оля, вы наблюдаете за переговорами по климату ООН уже 9 лет. И по вашему опыту, по вашим наблюдениям что больше влияет на их повестку? Новые исследования, какие-то научные результаты, то, что ученые пытаются донести политикам, или все-таки сами политики, появление лиц? Мы вспомним, как это было, когда был Альберт Гор, или сейчас как влияет на повестку по климату Трамп. Чья сторона здесь сильнее?
Ольга Добровидова: Безусловно, политиков, конечно. Если поначалу еще ученые как-то обращали внимание на то, что они говорят, сейчас, пожалуй, политики полностью захватили лидерство в этой области. Межправительственная группа экспертов по изменению климата, это международная группа, которая занимается их исследованием, существует последние 30 лет. И примерно 25 лет они говорят примерно одно и то же – что мы движемся к катастрофическому изменению климата при нынешнем сценарии, когда будем делать то же самое, что делаем. Политики, к сожалению, не слушают.
Ольга Орлова: А межправительственная группа экспертов – это в основном ученые?
Ольга Добровидова: Да.
Ольга Орлова: Это как раз голос науки, который пытается повлиять на повестку переговоров по климату?
Ольга Добровидова: Да, безусловно. Они готовят регулярно доклады, в которых обобщают лучшие научные исследования в этой области. Это то, что мы знаем о климате на данный момент. Это официальный источник, пожалуй, самый лучший источник на эту тему. К сожалению, политики не прислушиваются к голосу ученых. Не во всех делегациях вообще есть ученые. И в этот раз журналисты обратили внимание на то, что на последней конференции в Польше, куда я только что вернулась, ученым не дали слово на церемонии открытия. Это было довольно значимо, потому что они только что представили очень важный доклад (потепление на 0.5 градуса). Соответственно, все ждали того, что им будет дано слово, что они смогут выступить, рассказать о каких-то основных выводах этого доклада, еще раз призвать вести себя хорошо. Но, к сожалению, этого не случилось. И организаторы конференции не стали комментировать даже эту тему, ее замяли немножко.
Ольга Орлова: Если говорить о том, как распределяется влияние голосов разных стран, вот у нас понятно, что лидерами по выбросу парниковых газов являются развивающиеся страны. Как отражена их позиция сейчас? Как они слышны? И вообще как они влияют на то,что происходит? То есть развивающиеся страны и то, что называется «большие старики», то есть развитые страны, те, кто задает вектор этих переговоров. Как распределяются здесь силы?
Ольга Добровидова: Безусловно, сейчас лидерство по выбросам парниковых газов принадлежит развивающимся странам, прежде всего за счет Китая как основного индустриального нынешнего гиганта. Но надо понимать, что такая ситуация была не всегда. Когда конвенцию ООН по климату создавали в 1990-1992 годах, распределение выбросов было несколько иное. Все-таки развитые страны ввели. Поэтому в ней закреплены нормы, которые предполагают все-таки преимущественную ответственность развитых стран. Но здесь нужно еще учесть, что конвенция ООН использует свое собственное определение развитых и развивающихся стран, зафиксированное тогда же, в 1990-1992 годах. Поэтому, например, Южная Корея – это развивающаяся страна.
Ольга Орлова: Хотя де-факто уже давно нет.
Ольга Добровидова: Безусловно. Она член ОЭСР, насколько мы знаем, Организации экономического сотрудничества и развития. То же самое касается, например, стран арабского мира: Саудовская Аравия, Кувейт, Катар – все это развивающиеся страны. Естественно, это все очень большая группа, более 100 с лишним стран. И у них очень разные позиции.
Ольга Орлова: То есть внутри развивающихся стран по классификации ООН сейчас уже произошло разделение. И у них разные позиции по отношению к климатическим проблемам.
Ольга Добровидова: Да, разумеется. Они все еще числятся как отдельная группа, но на самом деле в таком качестве практически не выступают. На самом деле есть самые разные группы – от наименее развитых стран, от малых островных государств, которые сильнее всего пострадают от изменения климата, до стран типа Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки (если вы заметили, это БРИКС без России, такая переговорная группа есть), которые защищают свои интересы больше в экономическом смысле. Право на развитие, прежде всего на промышленное развитие.
Ольга Орлова: БРИКС без России. Как отличается их переговорная позиция по климату по сравнению с развитыми странами? На чем они настаивают? На том, что они по-прежнему могут выбрасывать повышенное количество парниковых газов? Они хотят больше квот, разрешений? В чем суть их позиции?
Ольга Добровидова: Они настаивают, что проблема изменения климата создана развитыми странами. Что они воспользовались своей возможностью промышленного развития, и в результате мы получили эту нынешнюю проблему. Поэтому они считают, что сокращение выбросов парникового должно прежде всего приходиться на развитые страны, а им нужно дать право какое-то время развиваться…
Ольга Орлова: Чтобы тоже попасть в число развитых стран. То есть речь идет о некой исторической ответственности. В том смысле, что «вы это породили, страны Европы и Северная Америка – вы тогда за это и платите». Смысл такой?
Ольга Добровидова: Да. Еще какое-то время назад, скажем, 5-10 лет, они настаивали на этом довольно агрессивно. В конвенции есть принцип исторической ответственности развитых стран за выбросы парниковых газов, за изменение климата. Сейчас, поскольку возражать против нынешней экономической ситуации довольно трудно, позиции несколько смягчаются. Китай пользуется тем, что ему нужно решать домашнюю задачу – снижение выбросов в атмосферу в принципе. Кто был в Китае, тот точно это знает – очень плохое качество воздуха в китайских городах приводит к тому, что население уже начинает роптать в каком-то плане. И Китай пытается решить две проблемы сразу. С одной стороны, снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, а, с другой стороны, сократить выбросы парниковых газов. Таким образом реализовать свою задачу.
То есть сейчас эта позиция несколько смягчается. Они движутся навстречу, в основном потому что крупные страны типа Евросоюза как блока стран, типа США на самом деле идут навстречу Китаю. То есть они готовы к какому-то компромиссу, к какому-то взаимодействию, и в этом смысле Китай в группе Basic, в группе стран БРИКС без России, пожалуй, занимает лидирующую позицию.
Ольга Орлова: Как отразилось на позиции Соединенных Штатов по климату появление Трампа на политической арене, его недоверие к ученым, его отказ финансировать исследования по изменению климата? Как все это выглядит и как вообще обсуждают другие страны, как они на это реагируют? Что там происходит? Наверное, просто все шокированы Америкой в этом плане, администрацией президента сейчас.
Ольга Добровидова: Естественно, никто не ждал, что Трамп станет президентом Соединенных Штатов. Это был сюрприз для многих, в том числе в климатическом процессе. Надо сказать, что в истории переговоров уже были такие прецеденты. Был президент Джордж Буш, который отказался от ратификации Киотского протокола. Поэтому в каком-то смысле участники переговоров уже научены к тому, что в Соединенных Штатах могут быть очень резкие перемены власти, очень радикальные изменения взглядов на эту проблему. Поэтому в каком-то смысле все были морально к этому готовы, что такое возможно. Надо сказать, что при всем при этом, притом, что официальная позиция Соединенных Штатов теперь не очень научная. Потому что Дональд Трамп, как известно, считает, что это заговор китайцев. Вся проблема изменения климата придумана теми же самыми китайцами, чтобы подавить экономику Соединенных Штатов. Это, конечно, не так, безусловно. И здесь нужно вспомнить, что один из основателей вообще теории о современном изменении климата – это советский и российский ученый Михаил Будыко. Так что если это заговор, это наш заговор, если на то пошло.
Притом, что официальная позиция неконструктивна, исполнители на местах (чиновники министерства иностранных дел, ученые) продолжают работать очень конструктивно, несмотря на Трампа, несмотря на все его недоверие к ученым, в США не далее, как в прошлом месяце вышел большой оценочный доклад про изменение климата, в котором ученые проанализировали различные его сценарии и пришли к выводу, что наиболее экстремальное проявление изменение климата, если мы не делаем совсем ничего и изменение климата идет по наихудшей для нас траектории, приводит к потере десятка процентов ВВП, миллиардным потерям для штатов отдельных. Этот доклад вышел несмотря на то, что Дональд Трамп напрямую сказал, что он в него не верит. Тем не менее, 13 правительственных агентств, 13 министерств и ведомств, которые его готовили, все еще работают на научной основе.
Ольга Орлова: А как же тогда то, что Трамп практически сразу, когда он был избран, объявил о том, что он не будет предоставлять бюджетные государственные деньги для финансирования исследований по климату? Как это сказалось на работе американских климатологов и вообще экспертов по этому вопросу?
Ольга Добровидова: Это, конечно, большая проблема, потому что Трамп действительно в своих предложениях по бюджету очень сильно урезал бюджеты НАСА и Управление океанических и атмосферных исследований, ключевых ведомств в этом вопросе. Это привело к тому, что мы потеряли очень много проектов в развивающихся странах – в Карибском регионе, в Африке, в Юго-Восточной Азии, там, где ученые США сотрудничали с местными специалистами. Это очень важно, потому что у нас очень мало данных из этого региона. Туда нужно приносить новые технологии, новые инструменты.
Ольга Орлова: А это могут себе позволить только те, у кого есть достаточно большие деньги? И поэтому американские деньги в этом смысле были главными по изучению климата в дальних точках планеты, куда местная власть, местные государства просто не будут этим заниматься, они просто слишком бедны для этого?
Ольга Добровидова: Да, безусловно. И в этом смысле научное сообщество пытается найти какие-то варианты, найти какие-то альтернативные источники финансирования, что-то придумать. В этом смысле, конечно, избрание Трампа было таким ударом по американской науке.
Ольга Орлова: Какие способы сейчас, какие инструменты снижения выбросов парниковых газов обсуждаются на переговорах? Какие есть основные пути?
Ольга Добровидова: Надо понимать, что большая часть выбросов парниковых газов от деятельности человека связана с энергетикой. Это прежде всего трансформация энергосистем всего мира, переход на возобновляемую энергетику, на альтернативное топливо. Чтобы этого достичь, страны пытаются придумать методы кнута и пряника. Кнут – это принудительное сокращение выбросов. Страны принимают на себя обязательства. Потом перекладывают их на бизнес. И бизнес уже какими-то своими путями решает. Либо это модернизация, либо энергоэффективность, либо это попытка квот на выбросы в других местах.
Поскольку атмосфере все равно, где сокращаются выбросы парниковых газов, у нас климат – это по-настоящему общая проблема, вы можете заплатить кому-то другому за то, чтобы он сам сократил выбросы парниковых газов и вы потом получили эти квоты на выброс.
Собственно, пряники – это подобного рода система. Это попытка взять капиталистические методы воздействия на экономику и применить их к проблеме изменения климата.
Ольга Орлова: Как это работает?
Ольга Добровидова: В Киотском протоколе были такие механизмы, когда две стороны договариваются о том, что одна из них дает деньги и технологии другой стране, та страна реализует какой-то проект, например, переход от угля на газ, очень популярный способ сократить выбросы парниковых газов и одновременно снизить вредные выбросы в атмосферу. Очень актуально, например, для того же Китая. И затем страна, давшая деньги и технологии, получает разрешение не сокращать собственные выбросы парниковых газов, а воспользоваться квотами от других стран. Такой же механизм сейчас пытаются создать в рамках нового парижского соглашения, действующего с 2015 года. Но здесь есть некоторые проблемы. Потому что первый опыт, связанный с Киотским протоколом, был не очень конструктивным. Некоторые страны (тот же Китай), откровенно говоря, мошенничали в этом процессе, нашли способ заработать не совсем экологично. И сейчас страны пытаются учесть этот момент, сделать его более честным с точки зрения охраны окружающей среды. Но, конечно, надо понимать, что первое, что вам скажут ученые – это то, что таких мер недостаточно. Мы все еще отстаем от тех траекторий оптимального развития, которые нам дают ученые. Выбросы парниковых газов растут. Они вновь выросли в этом году после некоторого плато, после некоторой стабилизации. Концентрация парниковых газов ставит рекорды. Несмотря на то, что последние 30 лет мы вроде как в курсе о том, что это проблема.
Ольга Орлова: То есть все жители на планете знают, что это проблема, государства пытаются найти решения именно на уровне государств какие-то экономические механизмы. Но ведь есть еще и вклад каждого гражданина, который хочет в этом участвовать или не хочет. Какие здесь есть инструменты у каждого из нас? Если я хочу на это повлиять, если я не президент, не глава группы от страны по переговорам по климату, что я могу сделать?
Ольга Добровидова: Если у вас нет электростанции, которую вы можете перевести с угля на газ, пожалуй, есть два основных пути сокращения собственного углеродного следа, того количества парникового газа, которое связано непосредственно с вашей жизнью. Это переход на общественный транспорт, на электротранспорт. Сокращение следа от своего автомобиля. Отказ, может быть, даже полный от личного транспорта в пользу общественного. И поэтому, кстати, страны, надеясь на то, что этот процесс будет идти, постепенно люди будут все больше и больше пользоваться экологичными видами транспорта, пытаются перестроить именно систему общественного транспорта – переводят их на газ, переводят их на электричество, стараются сделать этот шаг как можно более комфортным для человека. Второй маршрут снижения собственного углеродного следа – это, как ни странно, вегетарианство.
Ольга Орлова: Потому что метан, который получается в результате сельского хозяйства – это выращивание коров, выращивание свиней, выращивание баранов, овец. Потому что метан очень сильно токсичный в этом смысле, то есть он дает больше парниковый эффект.
Ольга Добровидова: Да, метан – это более сильный парниковый газ, чем углекислый газ. И доля животноводства, конечно, в общих выбросах сельского хозяйства очень высока. Поэтому недавно был доклад Всемирного института ресурсов, посвященный как раз модернизации сельского хозяйства. Они исходили из того, что к середине нынешнего века, наверное, нам нужно будет накормить 9 млрд людей. При этом мы не сможем бесконечно расширять посевные площади и площади для выпасов, потому что нам хотелось бы оставить все-таки какие-то леса.
Ольга Орлова: Живые.
Ольга Добровидова: Живые леса. И нам нужно где-то жить еще. И здесь есть два пути. Это интенсификация сельского хозяйства, в том числе современные агротехнологии. А второй путь – это, как ни странно, сокращение потребления мяса до 1-1.5 порций в неделю. Сейчас активисты довольно активно агитируют за вегетарианство. Я думаю, что еще 5-10 лет, и это станет мейнстримом.
Ольга Орлова: Трендом, да? То есть люди начнут так же, как сейчас, например, в западной Европе активно пересаживаются на велосипеды, в Америке – на электромобили. Кому что доступнее. Тут надо еще, конечно, делать поправку на то, что, во-первых, вопрос денег. Где-то электромобили доступны, можно на них ездить и заправляться. Где-то просто маленькие расстояния. И в традиционном европейском городе, где есть территория старого города, где есть эта брусчатка, передвигаться на велосипеде – это нормально. Конечно, мы в этом смысле находимся в особой зоне. Во-первых, у нас очень дорогие электромобили или даже гибриды. Есть города, где все таксисты работают на Приусах уже. У нас это очень дорогая машина. Мы не можем себе пока позволить.
И с велосипедами, конечно. Учитывая, что у нас снег на большей территории России лежит примерно где-то с ноября по апрель. Велосипеды тоже для нас малодоступны. Конечно, Россия в этом плане, наверное, еще долго будет отставать. И, кстати, в связи с довольно длительным холодным периодом у нас также тяжело идет вегетарианство. Потому что зимой люди хотят согреваться. И сало, и мясо едят гораздо больше. Северные народы вообще все мясоеды. Они вообще все сидят на этом.
Оля, как вы думаете, какие же в этом смысле у России есть тогда пути? Если мы в таких особых условиях находимся?
Ольга Добровидова: Безусловно, когда я говорю о пересадке на общественный транспорт, на электрический, газовый или вегетарианство, это, конечно, тот выбор, который должен сделать золотой миллиард.
Ольга Орлова: Золотой миллиард, который живет в других условиях.
Ольга Добровидова: Да.
Ольга Орлова: Экономический и климатический.
Ольга Добровидова: Безусловно. Для России все еще не исчерпан потенциал повышения энергоэффективности зданий. Есть такой Центр энергоэффективности Игоря Башмакова. Это, кстати, один из авторов межправительственной группы экспертов по изменению климата. Который однажды подсчитал, что просто повышение энергоэффективности всех зданий в России (всех жилых, нежилых зданий) приведет к сокращению выбросов парниковых газов наполовину. То есть это тот ресурс, который мы абсолютно сейчас не задействуем.
Ольга Орлова: Это же огромный просто эффект.
Ольга Добровидова: Колоссальный на самом деле. Поэтому для нас есть такие возможности. Кстати, в последние годы транспорт тоже стал играть большую роль. Так что не стоит сбрасывать со счетов пересадку на общественный транспорт, развитие общественного транспорта в городах. Потому что для многих городов это проблема, как и для Китая – проблема качества воздуха.
Ольга Орлова: Оль, но ведь Россия стала таким лидером по снижению выбросов парниковых газов невольно. Это произошло в начале 1990-х, когда у нас началась перестройка и произошел очень резкий спад в промышленности. У нас просто советская промышленность остановилась, новая еще не родилась и не появилась. И в этом смысле мы особым образом перестали выдавать то количество парниковых газов, которые выдавали прежде в советские времена.
Как наша позиция сейчас, наша политика в отношении климата выглядит на переговорах в ООН? Как вообще относятся к России, что мы декларируем, что у нас за делегация в этом году, как все это было?
Ольга Добровидова: Россия, конечно, занимает уникальное положение на переговорах на международной арене. Во-первых, есть несколько вопросов, которые интересуют только нас, к сожалению. Возможно, если бы это было не так, они бы продвигались быстрее. Прежде всего это бореальные леса, леса Северного полушария. Кроме нас, сопоставимое количество лесов есть только в Канаде. Для Канады это не приоритет – уход за собственными лесами. Поэтому Россия настаивает на том, чтобы роль лесов учитывалась корректнее, учитывалась полнее. К сожалению, пока это голос в пустоту. Потому что никому, кроме нас, эта тема не интересна.
Другая, крайне актуальная, для России проблема, не актуальная больше ни для кого – это многолетняя мерзлота. 2/3 нашей территории на самом деле покрыто мерзлотой. Мы очень плохо себе это представляем, но это так. И разрушение мерзлоты, уменьшение несущей способности для нас означает прежде всего повреждение инфраструктуры на мерзлоте. Это трубопроводы, это нефтяные вышки, это железная дорога местами. И, во-вторых, повреждение зданий. Потому что в России, в отличие от той же Канады, от тех же США, на мерзлоте находятся постоянные конструкции, постоянные строения, которые, безусловно, будут повреждены в процессе разрушения мерзлоты. Для всех остальных стран проблема мерзлоты – это скорее проблема усиления изменения климата. Потому что по мере того, как она тает, в атмосферу попадают дополнительные парниковые газы.
Ольга Орлова: То есть в других странах люди не ощущают экономический эффект от таяния мерзлоты. Они не понимают последствия. Потому что да, они видят, что происходит в целом, что парниковые газы увеличиваются. Но они не понимают, как это бьет по карману.
Ольга Добровидова: Да. И я довольно много писала о проблемах как раз российской мерзлоты. Когда ты общаешься с зарубежными учеными, они даже не очень представляют, какое количество людей живет в России в арктической зоне. Помимо этого, Россия на переговорах занимает позицию своеобразного трикстера. От нас всегда ждут чего-то неожиданного, какого-то неожиданного жеста. Например, в этот раз мы всех неприятно удивили тем, что отказались приветствовать тот самый доклад о 1.5 градусах.
Ольга Орлова: Который готовили ученые.
Ольга Добровидова: Который готовили в том числе наши ученые. На самом деле там как минимум 3 автора от России – от Русгидромета, от российских научных институтов. И почему-то в компании с Соединенными Штатами, Саудовской Аравией и Кувейтом мы решили не приветствовать этот доклад.
Если про Соединенные Штаты все понятно…
Ольга Орлова: Почему они не приветствуют, мы понимаем, почему.
Ольга Добровидова: Дональд Трамп не может себе позволить приветствовать доклад, который он считает заговором Китая. С Саудовской Аравией и с Кувейтом тоже более-менее все понятно. Они на переговорах вообще занимают такую позицию. Их кого-то судьба ведет, кого-то тащит. Вот их откровенно тащит в переговорах. Потому что они всячески отстаивают свое право на продолжать добывать нефть, они придумывают какие-то хитрые способы…
Ольга Орлова: Они не хотят ограничений.
Ольга Добровидова: Они не хотят ограничений. Они боятся, что, приветствуя доклад, ты задаешь более высокую планку для действий. В чем проблема России, не очень понятно.
Ольга Орлова: А как российская делегация объяснила, что не хочет приветствовать доклад?
Ольга Добровидова: Никак не объяснила. Наш новый советник по проблеме изменения климата, специальный представитель президента, к сожалению, отказался от интервью, поэтому мы не смогли задать ему этот вопрос напрямую.
Ольга Орлова: То есть он ни российским, ни западным журналистам не давал никаких комментариев?
Ольга Добровидова: Насколько я знаю, нет. Мне не попадались западные комментарии.
Ольга Орлова: Это новый человек?
Ольга Добровидова: Да, это новый человек. Он занял свой пост, если я не ошибаюсь, в июне или в июле этим летом. Для него это первые переговоры. Раньше он был главой кабмина Чечни. То есть для него это абсолютно новая позиция. Он не очень хорошо пока владеет темой. Но, к его чести, он больше слушает, чем говорит, больше задает вопросов, чем отвечает на них. Пока он явно впитывает и погружается в тему. Но, к сожалению, он не смог нам ответить, почему Россия не приветствовала доклад. По неофициальной информации, Россия считает, что ограничение роста глобальной средней температуры 1.5 градусами, которым посвящен доклад, уже невозможно. То есть уже этот поезд ушел, к сожалению.
Ольга Орлова: То есть на самом деле больше, что ли?
Ольга Добровидова: Да, сейчас температура вырастет больше. Поэтому Россия отказывается приветствовать заведомо нереалистичный доклад. Есть такая версия. Я в чем-то понимаю мотивацию России. Хотя сам доклад говорит о том, что это не совсем так. Что еще есть возможности ограничить рост глобальной температуры 1.5 градусами.
Ольга Орлова: По вашим ощущениям, как можно было бы России изменить свою политику в этом вопросе? Вы сами говорили, что в Соединенных Штатах уже было несколько раз, когда на 180 градусов менялась позиция государства. И от этого был определенный разный эффект. Если говорить о России, какие бы изменения в климатической политике, вам кажется, были бы целесообразнее? Что нужно было бы сделать? Что говорят, опять-таки, может быть, эксперты, на чем настаивают наши ученые?
Ольга Добровидова: Для начала России неплохо было бы вообще обзавестись внутренней климатической политикой. Потому что ее на самом деле нет. Вся эта непредсказуемость, неожиданность действий России на международной арене во многом обусловлена тем, что у нас нет никакой внутренней последовательной политики на эту тему. У нас есть некоторые основные документы вроде климатической доктрины и план ее реализации, который выполняется не очень хорошо, с отставанием от графика, не все его пункты выполнены. Мы сейчас готовим план адаптации к изменению климата. Пока его еще никто не видел. Он в процессе согласования. Посмотрим, что там будет. У нас, к сожалению, нет никакой внутренней мотивации, нет никакой политической воли заниматься проблемой изменения климата. Поэтому вся наша климатическая политика – это превосходные эксперты, замечательные специалисты в своих темах, в экономике изменения климата, в научной стороне, которые помещаются в одной небольшой столовой. У нас регулярно проходят ежегодные мероприятия, посвященные переговорам. Вот мы все помещаемся в одном небольшом помещении.
Есть люди, которые пытаются в своих ведомствах что-то продвигать, что-то делать, но в отсутствие той самой политической воли, в отсутствие мотивации эти усилия очень часто уходят в песок просто.
Ольга Орлова: Спасибо большое. У нас в программе была научный обозреватель издания N+1, преподаватель научных коммуникаций университета ИТМО Ольга Добровидова.