Будущее. Тепло или холодно?
Будущее. Тепло или холодно?
https://otr-online.ru/programmy/klub-glavnyh-redaktorov/budushchee-teplo-ili-holodno-76872.html 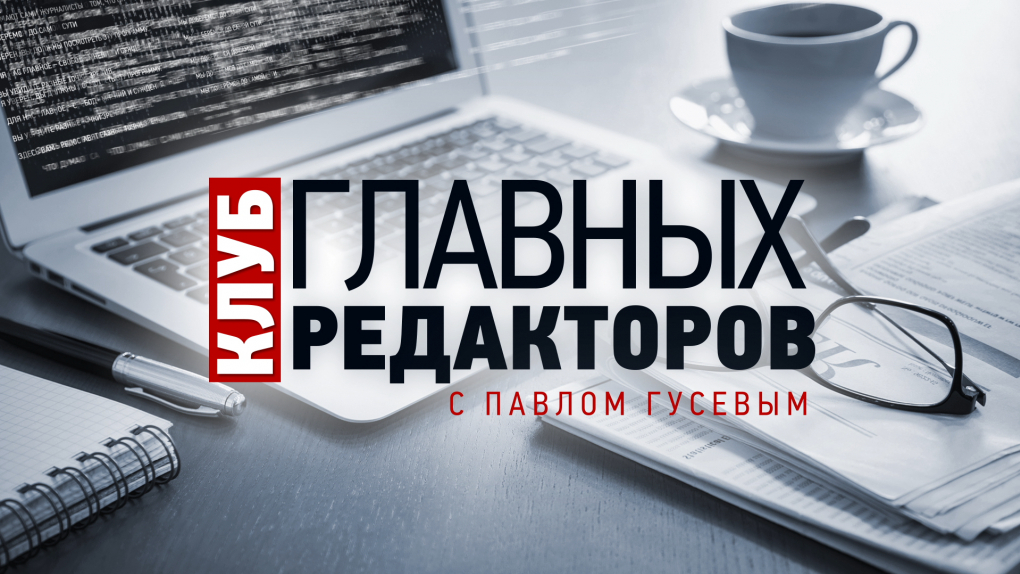
Павел Гусев: Здравствуйте! Я Павел Гусев, и это «Клуб главных редакторов».
Мир продолжает бороться с атаками и человека, и природы: ракеты и беспилотники в небе, последствия ливней и паводков на земле. И вот в контексте сложной ситуации с паводками в России звучат версии о глобальной угрозе. Изменение климата, глобальное потепление – угроза придуманная, мифическая или реальная? Чего же больше в призывах «зеленых» активистов, политики и расчета или рациональности и правды? Может ли климатическая повестка изменить мировую экономику и даже привести к новым войнам? Обо всем этом спрошу сегодня людей знающих.
У меня в гостях:
Валерий Снакин, зам главного редактора журнала «Жизнь Земли», профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института фундаментальных проблем биологии;
Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета, заместитель директора Гидрометцентра России;
и Александр Камкин, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений.
Вы знаете, давайте сначала поговорим о паводках. Что произошло? Снежная зима или ранняя весна? Давайте об этом поговорим. Пожалуйста.
Юрий Варакин: По метеоусловиям, конечно, фактор такого сильного половодья на территории Оренбургской области, Курганской, да и Тюменской, и в Казахстане, Северный Казахстан, Актюбинская область – то, что эта зима прошедшая, 2023–2024-х гг., снега было серьезно больше.
Второй основной аспект с точки зрения метеорологии – это то, что осень была очень дождливая и почва ушла под снежный покров переувлажненная.
И третий такой фактор серьезный наиболее, в отличие от Подмосковья, где тоже снега было в 1,5 раза больше, но такого паводка нет, все прошло относительно спокойно, ну там традиционно Белоомут и пр., – это то, что промерзание почвы было от 80 сантиметров до 1,5 метров, 1 метр 45 сантиметров, если говорить именно про те регионы, которые я обозначил, в отличие от, допустим, Центрального федерального округа, где промерзание было 30–45 сантиметров максимум, т. е. не 1,5 метра.
Павел Гусев: То есть по норме.
Юрий Варакин: И еще такой фактор – это вот как раз изменчивость и нервозность погоды в том плане, что у нас за последние 10–15 лет, опять-таки с точки зрения климатических рамок у нас 30-летний период – это один шажок в климате...
Но окончательный такой фактор – это то, что вот на фоне глобального потепления у нас смена воздушных масс в температурном плане существенно превышает тот период, который, допустим, наблюдался во второй половине XX века. То есть приходил теплый или холодный атмосферный фронт, разница между холодной воздушной массой была в пределах 5–7 градусов, а сейчас это 15–20.
И что получилось? Земля еще не оттаяла, ну если мы говорим опять, сначала это бассейн, река Орь и Илек, это притоки южные с Казахстана, Урала, то же самое Оренбуржье, и температуры... Сейчас, допустим, у нас температуры аномально высокие: в Оренбурге в выходные вот эти, сейчас мы видим, и не только Оренбург, это и Челябинская область, и Курганская...
Павел Гусев: Ну да, т. е. это уже расширение идет.
Юрий Варакин: ...28 градусов. То есть буквально до паводка вот этого там температуры были минус 5 ... 0 градусов, т. е. рост... Естественно, вначале это был Северный Казахстан, вот такие перепады сразу на 15 градусов... То есть резкое идет таяние, она не может как губка уйти...
Павел Гусев: Вода уходить [не может], все понятно.
Юрий Варакин: И поверху... Еще ледоход...
Павел Гусев: Скажите, вот для всех тоже вопрос, не свидетельствует ли это о том, что происходит чрезвычайное глобальное изменение климата и это связано именно с этим, а не только вот с промерзанием и отмерзанием?
Валерий Снакин: Глобальные изменения климата идут постоянно, и мы должны понять, что это есть норма. Не та норма, которую мы вообще рассчитываем и вот считаем, что сегодня температура на 5 градусов выше или ниже нормы, а норма – это постоянные изменения, которые идут в природе. И поэтому мы должны к этому привыкнуть, понять и не искать здесь виноватых. Норма – это практически то, чего не бывает.
Павел Гусев: Ну подождите, вот я знаю, что, по последним данным, потеплело за последние 100 лет на 1 градус, так ведь?
Валерий Снакин: Да. И что?
Павел Гусев: И что? Вот я и хочу спросить.
Валерий Снакин: И ничего. У нас в городах температура на 1,5–2 градуса теплее, чем в окрестностях, понимаете, – и что? И ничего. У нас наблюдается сейчас потепление, да, 1 градус за 100 лет. Но климат меняется постоянно, средняя температура сейчас гораздо ниже, чем была, положим, тысячу лет назад. То есть иногда говорят: вот невиданный рост температуры, невиданная скорость изменения температуры – все это было, есть и будет.
Павел Гусев: А чего тогда нас пугают-то всем этим изменением климата и то, что наступит или глобальное потепление и мы все с вами должны, извиняюсь, превратиться в вареные какие-то существа, или же нам говорят, что опять движется ледниковый период. Вот где все-таки истина?
Валерий Снакин: Есть и то и другое. И ледниковый период будет, не волнуйтесь, через 10–15 тысяч лет. Мы сейчас как раз живем в межледниковье, и мы должны вообще-то, особенно находясь в России, радоваться, что нам повезло, что температура у нас на градус поднялась и т. д.
Павел Гусев: Подождите, вот вы говорите, на градус поднялась, но при этом мы говорим, что все идет к ледниковому периоду. Как я знаю, известно, что, по-моему, шесть или семь ледниковых периодов в истории насчитывалось или, может быть, даже...
Валерий Снакин: Гораздо больше.
Юрий Варакин: Гораздо больше.
Павел Гусев: И что? Мамонты вымирали в какой период? В ледниковый.
Валерий Снакин: Я не уверен, там с мамонтами не все дело ясно, как и многое в природе.
Вот когда мы начинаем рассуждать о тех изменениях, которые наблюдаем в природе, то я всегда вспоминаю фразу одного французского естествоиспытателя начала XIX века, Жан Огюстен Френель. Он говорил, что природа как бы издевается над нашими аналитическими затруднениями: использует она самые простые средства, а на практике они сливаются во что-то такое, что мы понять никак не можем.
Павел Гусев: Вот это самое главное.
Александр, как вы считаете, может быть, это все-таки страшилки? Есть ученые, есть те, кто занимаются климатом, им же деньги надо зарабатывать, они должны все время идеи какие-то привносить, «вот делайте это», «делайте это», «давайте еще десять метеостанций построим», «запустим шесть космических спутников» и т. д. и т. п. А на самом деле что?
Александр Камкин: А на самом деле, если говорить с экономической и с политической стороны (я все-таки не специалист в климате, я специалист больше в таких околоэкономических и политических вопросах), вопрос климата, его изменений и вот в какую сторону он будет двигаться... Мы помним, например, зиму 2006–2007-х гг., когда снега в европейской части России почти не было, он выпал и сразу растаял, зеленая трава в январе была. Соответственно, это вот еще одно свидетельство таких климатических качелей, то, что мы наблюдали своими глазами.
В большой политике и в большой экономике вопросы изменения климата очень сильно используются, и даже ими злоупотребляют. Вот то же самое экологическое движение в Европе, Грета Тунберг и иже с ней, страшилки, что завтра обязательно будет глобальное потепление, что парниковые газы, что нужно снижать углеродный след, достичь к 2050–2060-м гг. углеродной нейтральности...
Если брать за основу вот эту «зеленую» повестку, к чему она в итоге приведет? Либо это потеря конкурентных преимуществ нынешнего технологического уклада, а в конечном итоге это даже не только деградация, это архаизация индустрии: это отказ от целого ряда перспективных наукоемких отраслей, это переход уже к более примитивным формам сельского хозяйства... «Зеленые» в Европе по крайней мере требуют полного отказа от минеральных удобрений, полного отказа от животноводства, потому что от коров слишком много метана...
Павел Гусев: С другой стороны, мы сейчас видим, что в Европе многие страны уже отказываются от этой «зеленой» политики, от «зеленых» технологий и переходят к более реальным, т. е. начинают развивать опять сельское хозяйство и т. д. и т. п.
Александр Камкин: Потому что «зеленая» повестка убивает экономику, а вслед за ней – социальную сферу.
Для иллюстрации. Вот по данным 2021 года, в Германии для нужд промышленности, именно индустрии, только 4% энергии производили возобновляемые источники энергии, это солнце и ветер.
Павел Гусев: Четыре процента.
Александр Камкин: Четыре процента. Да, из-за отказа от российского газа, из-за санкционной войны, конечно, эти 4% немножко подросли, но это не 70%, это не 50%, это даже не 30%. Соответственно, все разговоры «зеленых» о том, что они за счет ветряков и солнечных панелей полностью перестроят экономику, технологический уклад, – извините, но это профанация.
Павел Гусев: Вы знаете, я знаю, по крайней мере читал об этом, и мне рассказывали в Европе и местные жители, и ученые, о том, что вот эти ветряки для здоровья человека и для здоровья животного мира...
Валерий Снакин: Совершенно верно.
Павел Гусев: …оказывают такую негативную роль...
Александр Камкин: Вибрация уничтожает микроорганизмы.
Павел Гусев: Да! И микроорганизмы, уничтожает птиц...
Валерий Снакин: Погибают птицы, да.
Александр Камкин: Огромное количество минерального масла, которое расходуется на редуктора, которое потом рассеивается в качестве микроаэрозоля вокруг... Соответственно, вот эти ветряные фермы, которые стоят в Германии, в Нидерландах, фактически означают опустынивание, это мертвая земля.
Павел Гусев: Мертвая земля там получается, это действительно так. Вот я разговаривал с учеными, они в ужасе от того, что сотни вот этих вот ветряков стоят и живого там практически ничего нет.
Александр Камкин: Абсолютно верно.
Юрий Варакин: Я бы хотел все-таки сказать, что у нас принята климатическая доктрина до 2060 года и есть, в общем-то, уже и наработки, и программы, этапы первые по адаптации к климатическим изменениям.
Почему? Потому что статистика – вещь упрямая. У нас, допустим, 2023 год, по данным всех климатических центров всех стран, входящих во Всемирную метеорологическую организацию, был самым жарким, самым теплым, т. е. среднегодовая температура за 2023 год более чем за почти 150 лет инструментальных именно наблюдений... Потому что до этого просто было все где-то в записях, в церковных книгах и пр. Плюс 2023 год в России был третий по рангу, 2020 год был самый теплый именно на территории России, т. е. опять, мы же не говорим про среднюю по больнице температуру.
И плюс, конечно, надо, говоря о «зеленой» энергетике и пр., понимать, что у каждой страны свои климатические пояса, несмотря на то что у нас все климатические пояса, кроме тропических, от арктических широт и до субтропиков, черноморское побережье Сочи или юг Приморского края. Но мы уже знаем, что подходит по всем критериям «зеленой» энергетики: атомная промышленность по сравнению с любыми другими ископаемыми наиболее меньший углеродный след.
Второе: нам, допустим, неприемлема солнечная энергетика, потому что... Когда был Советский Союз, у нас была Центральная и Средняя Азия, где достаточно много солнца...
Павел Гусев: Солнце было почти круглый год.
Юрий Варакин: Да. Сейчас у нас осталось только два субъекта, где будет рентабельно, это Республика Бурятия и Забайкальский край, т. е. это вот «прибрюшье», так сказать, приграничное с Китаем и с Монгольской Республикой, все. Весь Север у нас 75% все время в облаках.
Плюс ветряки – это все-таки не Северное море, там, где они эффективны, ну Чукотка. Но надо понимать, Чукотка территорией размером с Францию, это вот по территории Франция, там всего 45 тысяч населения – ну и что, там будем ветряки делать? Да, там серьезные ветра в Угольных Копях, Певек или в Диксоне, т. е. есть у нас, где очень, достаточно ветреная погода, но там практически плотность населения одна из меньших по территории России. Ну и правильно, где-то на Кубани или в Подмосковье ставить такой агрегат, цепь ветряков – мы что, мы тогда лишимся всей природы, экологии и пр.
Павел Гусев: Это вообще безумие какое-то.
Юрий Варакин: Да. Поэтому очень хорошо «Росатом» сделал, пригнал «Ломоносова», мобильную вот эту атомную станцию, в Певеке, и все, она обеспечивает всю эту территорию.
Валерий Снакин: Решила все вопросы.
Павел Гусев: Ну вот, знаете, вот эти ребята «зеленые», включая вот эту непонятную девочку, теперь она уже повзрослела немножко, но осталась такой же странной...
Валерий Снакин: Но не поумнела.
Павел Гусев: Отказ от мяса, отказ от животноводства, отказ от всего живого, которое позволяло живому человеку оставаться живым. Как это может помочь климату? Как может все это изменить нашу жизнь?
Александр Камкин: Климату, я думаю, это никак не поможет. Это элементы более глобальных и более структурных процессов по переформатированию человечества, по переформатированию мировой экономики. Соответственно, отказ от животноводства, переход на веганство, на каких-то насекомых – это прежде всего полностью изменение структуры производства, это изменение технологической цепочки. Это означает, что огромное количество людей, занятых в сельском хозяйстве, остаются без работы; да, кто-то, может быть, перепрофилируется, но все равно. И это еще не известно, как повлияет на человеческий организм, ведь есть поговорка: ты есть то, что ты ешь.
Павел Гусев: Вот, как раз это вот точка-то очень важная.
Юрий Варакин: А можно еще подчеркнуть опять особенности наши климатические? Мы – северная страна, самая северная, ну еще Канада, может быть, но треть – это практически приарктическая территория, вечная мерзлота... Как нам без мяса? Организм все. Мы же не в субтропиках, не где-нибудь на Маврикии, где съел банан или еще что-то, ананас... На Севере при минус 50 в Якутии, если ни рыбу, ни мясо не есть, то ты все...
Павел Гусев: Каюк.
Юрий Варакин: Каюк.
Валерий Снакин: Это опасная попытка изменить природу человека, неоправданная.
Павел Гусев: Совершенно верно.
Если честно, у меня ощущение, что в рамках борьбы с парниковым эффектом, углеродным следом, глобальным потеплением человечеству пытаются навязать новую философию, которая помогает обогатиться самым предприимчивым. Вот смотрите, коровы – плохие, они увеличивают количество парниковых газов, давайте откажемся от мяса. И за считанные годы развивается индустрия вегетарианства, заменители мяса, экологически дружелюбной еды, а Билл Гейтс или семейный фонд Греты Тунберг собирают миллиарды долларов. Если я не прав, пусть меня поправят.
На связи Ставрополь и Антон Стокоз, руководитель компании по производству продуктов из насекомых. Здравствуйте, Антон. Из каких насекомых и какую именно еду вы делаете?
Антон Стокоз: Добрый день.
Мы делаем продукты из сверчка домового, делаем такие продукты, как печенье курабье, савоярди, с корицей. Также делаем лапшу быстрого приготовления с курицей, с говядиной, делаем каши быстрого приготовления. И также делаем снеки из жареных сверчков во фритюре. Вся эта продукция сделана из сверчков, с добавлением сверчков, скажем так.
Павел Гусев: А откуда такая идея у вас появилась? Вот кто вас надоумил и кто вам это предложил? Или вы вычитали это у Греты Тунберг или у кого-то еще?
Антон Стокоз: До того как я стал этим заниматься, я не знал ни про какую «зеленую» повестку, ни про каких глобалистов, о которых вы сейчас рассуждаете: я был госслужащим, а у меня родители занимались другим направлением бизнеса, это медицинская пиявка. Как известно, медицинская пиявка нарисована на египетских пирамидах, ею лечились еще в те времена. Мне стало так же интересно, какое животное, какое насекомое может так же влиять положительно на организм человека и про которое было написано еще в древности.
И с того времени я стал просто изучать, что это может быть за насекомое. И во всех летописях, во всех, если взять Ветхий Завет, Новый Завет, много писаний еще каких – везде написано про вид саранчовых, а именно про акрид, про сверчков, про кузнечиков и т. д. Поэтому мне стало интересно, почему именно этому насекомому уделяется столько внимания и именно это насекомое выделяется из всех.
Павел Гусев: Скажите, пожалуйста, а чем отличается... ? Вот вы сказали, подчеркнули, из домашних сверчков, – а что, из диких будет невкусно или будет другая еда?
Антон Стокоз: Вкусно или не вкусно, я сказать не могу. Правильно называется не «домашний», а «домовой», это вид сверчка, называется «домовой сверчок», т. е. в диких условиях он просто не выживет. Кроме того, мы на данный момент являемся единственной компанией в России, которая занимается выращиванием домового сверчка для пищевых целей именно для человека. Соответственно, у нас весь корм для сверчка состоит из кукурузы, пророщенной пшеницы, кабачка, тыквы, в принципе все.
Павел Гусев: Понятно. Но скажите, пожалуйста, вот вы в России, я так понимаю, единственный сейчас, кто начал все это делать в каких-то таких масштабах, что вы продаете. А в мире кто-то еще делает из сверчков что-то?
Антон Стокоз: В мире 2 миллиарда человек питаются насекомыми. Именно из сверчков буквально на той неделе, по-моему, в Голландии, если не ошибаюсь, открылся прямо ресторан, в котором делают все из сверчков, абсолютно все.
Павел Гусев: Подождите, вы сказали, 2 миллиарда, сейчас на земном шаре, если я не ошибаюсь, проживает где-то...
Валерий Снакин: Восемь.
Александр Камкин: Восемь где-то, да.
Павел Гусев: Да, 7–8 миллиардов. По сути дела, треть кушает сверчков и других насекомых?
Антон Стокоз: Все правильно. Но не стоит уделять этому так внимание, что только питаться насекомыми, – нет. Так же и наша компания и наша политика не пытается заменить мясо, лично я никогда от мяса, от борща не откажусь. Поэтому как добавка к привычным нам продуктам это отличный компонент. Так же и в мире питаются не чисто насекомыми, а другими продуктами, которые уже нам привычны.
Павел Гусев: Но скажите, пожалуйста, вот вы кушаете борщ с мясом, я тоже люблю борщ с мясом. И честно могу сказать, что один раз в жизни пробовал каких-то тараканов в Корее, но они сладкие были, вяленые, сушеные и как конфеты, потом выяснилось, что это таракан; плохо не стало, но вспоминаю до сих пор.
Но скажите мне, пожалуйста, вот вы пришли к этим сверчкам для чего? Чтобы зарабатывать деньги, или все-таки вы хотите принести какую-то пользу человечеству?
Антон Стокоз: Смотрите, по поводу того, что вы один раз когда-то кушали в жизни таракана, я думаю, вы заблуждаетесь. Вы и ваши гости в студии уже давно питаетесь насекомыми в том или ином виде.
Куча продуктов, которые есть у нас на прилавках, там во многих продуктах имеется краситель, называется кармин, пищевая добавка, она называется Е120. Она присутствует в губной помаде красного цвета, в крабовых палочках, в фарше красного цвета – везде это кармин, а кармин – это самка насекомого.
Поэтому мы уже сотни, тысячи лет с вами это употребляем в пищу без каких-то проблем. Оттого, что просто мы это не знаем, мы это так не воспринимаем. В наших же продуктах мы на каждой упаковке, на каждой этикетке указываем, что «из сверчковой муки», «с добавлением сверчковой муки», чтобы это людям было ясно и понятно.
Павел Гусев: Скажите, пожалуйста, а вот ваше печенье из сверчков – оно что, у вас продается только в вашем регионе, или вы его развозите по стране? Как это вообще? Вот люди из интереса его пробуют или уже после этого начинают только это и есть?
Антон Стокоз: Смотрите, мы объездили, наверное, пять городов крупных в России, там были выставки, самая крупная выставка в России и Восточной Европе в Санкт-Петербурге, в Москве, Минеральные Воды. Люди когда видели наш тент, они, естественно, подходили из интереса. И что удивляло, они хотели попробовать не только печенье, а сразу хотели попробовать жареных сверчков во фритюре, для людей это было интересно.
В дальнейшем же, когда уже с людьми мы более подробно общались, для чего, зачем и почему... Это возвращаясь также к вашему вопросу, где вы сказали, хочу ли я денег заработать или какую-то пользу принести. Естественно, когда только начиналась мысль про такое производство, ни о каких деньгах мыслей не было – было только то, чтобы понять, почему делается исключение именно этому насекомому.
Павел Гусев: Но сейчас-то прибыльный бизнес или нет?
Антон Стокоз: Нет, не сказать, что это прибыльный бизнес.
Юрий Варакин: Когда бизнес – значит, прибыльный...
Павел Гусев: Это ваша внутренняя позиция, что нужно, чтобы кушали и сверчков тоже?
Антон Стокоз: Не нужно, нет такого, что нужно. Если вы не хотите, значит, вам это не нужно. Если вы понимаете ценность и готовы попробовать что-то новое для себя, тогда это вам нужно. Привязывать вас к батарее и запихивать сверчков или печенье никто не собирается.
Например, у нас в 100 граммах обычной муки до 5 граммов белка; в сверчковой муке на 100 грамм продукта до 75 граммов белка. Железа больше, чем в говяжьей печени, ну и еще много-много разных уникальных компонентов. Поэтому выбор каждого.
Павел Гусев: Ну что ж, успехов вам! Спасибо!
Антон Стокоз: Спасибо!
Павел Гусев: Не знаю, попробую я и мои гости печенье из сверчков, но тем не менее вам успехов, успехов и еще раз успехов.
Антон Стокоз: Спасибо большое!
Павел Гусев: Ну что, коллеги, ваши комментарии и ваши мысли по этому поводу.
Валерий Снакин: Как расширение питательно-пищевой базы это хорошее направление.
Юрий Варакин: Плюс микроэлементы, да.
Валерий Снакин: Да, тем более что эволюция всегда состояла в том, что мы находили новые источники питания и новые, так сказать, какие-то возможности изготовления продуктов питания. Поэтому здорово, что это есть.
Другое дело, что с этим нельзя слово «нужно» использовать при этом. Да, это полезно в любом случае, что наша пищевая база расширяется, и спасибо этому парню, что он взялся за это дело, и дай Бог ему удачи.
Павел Гусев: Ну хорошо, вот Антон говорит нам, что там очень много белка, других полезных [нутриентов] – может это заменить мясо? Вот с завтрашнего дня, предположим, с понедельника, мы с вами говорим: все, перехожу на сверчковые котлеты.
Валерий Снакин: В полной мере – нет, а как добавка – да.
Александр Камкин: Ну так Антон же и сказал, что это дополнительный вариант, дополнительная опция в рацион.
Проблема в том, что в нынешних реалиях вот этот агрессивный маркетинг, особенно в западных странах, делает подобный переход безальтернативным, т. е. там преподносится... В той же Германии помимо сверчков используют различных червей, различных личинок, их разводят и также производят муку из этих насекомых, потом гамбургеры, всякие различные заменители мяса... Раньше была мода на соевое мясо из соевого текстурата, который в основном из трансгенной сои делают... Поэтому альтернатива, добавка – да.
Но вот в рамках этого «зеленого», экологического, сверчкового перехода, называйте как хотите... Вот та же Грета Тунберг, интересен на самом деле результат социального эксперимента. Ее родители до 15 лет держали на веганской диете, и что получилось? Ребенок где-то 150 сантиметров, дальше она так и не выросла...
Валерий Снакин: Грета Тунберг не получилась.
Александр Камкин: Стала в последнее время лучше питаться, потому что округлилась... Ну вот недавнее как раз видео, где ее задерживают в Голландии в ходе уличных протестов, – там видно, что вот это неправильное питание, или, точнее, несбалансированное питание, наложило отпечаток на ее даже поведенческих аспектах. Ее волокут полицейские в автобус, аккуратненько туда заводят, и она там как угорелая бегает, как будто ребенок 5-летний, а ей уже далеко за 20. Поэтому тут много вопросов на самом деле.
Павел Гусев: Понятно.
Вот я лично удивился, первый раз в жизни это увидел. Лет 10 назад путешествовал по Камеруну, и вдруг мы выходим из тропического леса, и вот такие вот детишки, девочки, мальчики, три-четыре, сейчас не помню, неважно. У них такие острые палочки, и они ходят, листочки поднимают, раз палочку... Я присмотрелся: там белая личинка. Он раз! – жук, раз! – ... Я спрашиваю проводника: а что они делают, наверное, уничтожают ядовитых каких-нибудь... ? «Нет, – говорит, – смотри дальше». Они подходят к костру, жарят их и как шашлык кушают.
Валерий Снакин: И едят, да.
Павел Гусев: Вот здесь, я должен сказать, я был немножко в шоке. Это Африка.
Валерий Снакин: Это животный белок.
Павел Гусев: Да, скорее всего, так.
Валерий Снакин: Если нечего есть, то это вообще замечательно, что это есть.
Юрий Варакин: Надо понимать, что из 8 миллиардов у нас 1,5 миллиарда или чуть больше, по данным ФАО, недоедают постоянно, в основном это как раз слаборазвитые страны, Африка... Естественно, с одной стороны, мы понимаем, что сверчки и гусеницы эту проблему не решат, поэтому, конечно, путь только...
Ну и плюс вот правильно сказали про рост и т. д. Посмотрите, те же в западных странах наиболее высокорослые такие мужчины, скандинавы и датчане, норвежцы: и молоко, и рыба жирная северная, и мясо – все это у них идет в рационе. И в то же время там, где этого нет, мы видим, там люди на 40–50 сантиметров ниже в среднем.
Александр Камкин: Плюс подножный корм – это атрибут кочевых народов, это атрибут еще древности, когда только-только начиналось сельское хозяйство, когда в основном питались за счет охоты, собирательства. Но и сейчас нас уже в XXI веке пытаются отбросить назад, т. е. к пищевому рациону охотников каменного века. Это действительно не деградация – это архаизация.
Павел Гусев: Совершенно верно.
Я думаю, что мы уже про еду достаточно поговорили, о ней говорить можно много. Вот вы правильно сказали, Норвегия, там высокие, крепкие ребята, но в Африке, например, есть племя масаи, это Танзания...
Валерий Снакин: Тоже высокие.
Павел Гусев: Самые высокие и самые крупные. Почему? Потому что они питаются только мясом быков и молоком, из него делают всякое.
Валерий Снакин: Охотники.
Павел Гусев: И они гиганты, они вот такие ходят, вот так на них смотришь и удивляешься, хотя основное население в Африке все-таки более низкорослое. Вот это вот как раз и есть этот принцип.
Ну хорошо, давайте мы с вами поговорим тоже об очень важной проблеме, которая связана и с климатом, с природой, – это вода. Говорят, что в ближайшие десятилетия, столетия уж точно, с водой будет совсем худо, беда будет. Возможно, что появятся войны за воду, что начнут какие-то там, знаете, вот такие вот, «где взять воду?». В России воды очень много, одного Байкала хватит надолго, как я понимаю. Что может произойти? Пожалуйста.
Юрий Варакин: Во-первых, конечно, эта проблема уже имеет определенную историческую череду, начиная уже лет 20 назад первые были такие серьезные публикации и в научных работах, и в системе ООН, ВМО, что вот вода с учетом меняющегося климата и роста народонаселения, именно не просто вода как океан, а именно пресная вода, питьевая. И здесь проблема-то, в общем-то, с каждым годом набирает силу, даже на примере бывших наших республик, СНГ, то, что одно дело, когда была большая страна и все это можно было регулировать, строить плотины, водохранилища, гидроэлектростанции.
Даже маленький пример: много таких аналитических статей фактически, почему Голанские высоты до сих пор Израиль держит? Не из-за того, что это высоты, а потому что это источник, Иордан, воды, т. е. кто владеет... Фактически вот одна из целей – это держать и Палестину, и Иорданию, и часть, потому что это достаточно дефицитный с водой регион, и здесь основное, вот питьевая вода – это там. И много таких примеров можно привести.
Не зря за последние, наверное, 15–20 лет, посмотрите, тысячи различных, от мелких до крупных, водохранилищ Китай создал на своей территории, там и в Хэйлунцзянском автономном округе на основном притоке Амура, и Черный Иртыш перекрыл с казахами, ну и много... То есть вода – это более даже дорогой будет продукт, чем нефть, буквально уже в обозримом будущем, т. е. не надо ждать 20–50 лет.
Павел Гусев: Да и сейчас, надо сказать, вода уже в магазинчиках стоит достаточно приличных денег.
Юрий Варакин: И за нее будут серьезные идти бои.
Валерий Снакин: Война за ресурсы всегда была в истории человечества, и вода – это один из важнейших ресурсов. Скоро будет и с воздухом проблема, потому что мы его загрязняем.
И проблема в данном случае, по-моему, заключается в загрязнении воды, которое мы, человечество, производим. И если мы эту проблему решим, а ее можно решить, то проблем с водой особенных не должно быть, потому что если есть энергия, если есть морская вода, то есть вода питьевая. Поэтому этот вопрос решаемый.
Это, повторяю, проблема борьбы за ресурсы: она шла и пока, к сожалению, к счастью, я не знаю, постоянно идет. Постоянно идет эта война за ресурсы во всем мире.
Павел Гусев: Скажите, а вот, например, таяние ледников и таяние, Северный, Южный полюс, особенно Северный, и от этого, говорят, невероятные, ужасные картинки появляются в образах различных ученых, исследователей, что поднимется вода, затопит Данию, затопит Голландию и т. д. и т. п. Это что? Это как элемент развития исторический, природный вот каких-то катаклизмов, или это просто сегодня тает, завтра перестанет таять?
Валерий Снакин: Это очередная страшилка. Потому что, смотрите, есть научные работы, которые считают поверхность суши, площадь суши Земли и динамику. Так вот за последние десятилетия, несколько десятилетий, площадь суши увеличилась.
Павел Гусев: А говорят, что многие острова тонут.
Валерий Снакин: Да, Санкт-Петербург должен утонуть – а смотрите, он построил полуостров дополнительный. А в Китае реки несут иловые воды и пр., растут дельты. Голландия – это уж классический пример: она может кричать сколько угодно о том, что утонет, потому что это, извините, очередная страшилка, а площадь ее увеличивается.
Александр Камкин: То же самое и про таяние льда. Вот были исследования в свое время, вот в Гренландии проводили исследование, и сторонники гипотезы потепления говорили, что вот это годовые кольца льда. Оказалось, что эти кольца образуются чуть ли не каждый день, потому что плюс – минус, плюс – минус, и вот лед немножечко становится более плотным...
И соответственно, во всей этой «зеленой» повестке, во всей этой дискуссии о потеплении, похолодании, на мой взгляд, больше политики, больше такого алармизма, за которым стоят, соответственно, выгодоприобретатели, это какие-то крупные фонды того же Билла Гейтса и многих других...
Павел Гусев: Да-да-да.
Валерий Снакин: Простите, я вот хочу вернуть немножко к прошлому о роли страшилок. Посмотрите, мы почти перестали говорить про очередную страшилку, озоновый слой, про озоновые дыры.
Павел Гусев: Да-да, вообще нет.
Валерий Снакин: Господа, где они? А 30–40 лет назад...
Павел Гусев: …только и говорили.
Валерий Снакин: Да-да-да.
Юрий Варакин: Подписали Монреальский протокол, все, хладагенты...
Валерий Снакин: Да, Монреальский протокол, в Министерстве природных ресурсов плакат: «Мы спасем озоновый слой!» Господа, которые придумали фреоновую теорию истощения озонового слоя, быстренько под сурдинку получили Нобелевскую премию, немцы и двое американцев, а что получилось? А получилось, что быстренько фреоны, которые якобы опасны, заменили на другие хладагенты, и холодильную промышленность Советского Союза, 25% рынка мирового, уничтожили.
Юрий Варакин: Уничтожили.
Павел Гусев: Вот так вот.
Валерий Снакин: Вот вам, пожалуйста, роль экологических страшилок. Никакого отношения к природе, никакого отношения к охране окружающей среды нет.
А главное, вот извините, еще: у нас большая проблема – это тропосферный озон. Десять процентов урожая в Соединенных Штатах якобы погибает из-за того, что тропосферный озон образуется. Так вот почему же эти фреоны от холодильной промышленности должны были на 15 километров вверх ползти, чтобы там прореагировать, а не уничтожать этот вот озоновый слой?.. Понимаете?
Павел Гусев: Ну да.
Валерий Снакин: Настолько была эффективная такая гипотеза... Зато промышленники потирают руки. Мы сейчас пользуемся не нашими советскими «ЗИЛами», прекрасные холодильники, у меня в лаборатории до сих пор работает, 1956 года, а Stinol-ами и пр., которые стали производить на территории России.
Павел Гусев: Ну вот скажите, все-таки как вы считаете, вы люди, которые работаете в этой области, знаете, реальные методы спасения, или изменения, или улучшения климата существуют? Или то, что божий дар мы получили в виде воздуха, воды, земли, он не изменяется с помощью человека, вот так, знаете, глобально? Да, можно, так сказать, какую-то станцию запустить, она испортит воздух. Как в этой ситуации?
Юрий Варакин: Ну конечно, есть же вот климатическая доктрина и программа адаптации к климатическим изменениям национальная, да и в каждой стране, кто этим озабочен, и можно все это, в общем-то, загодя предусмотреть и минимизировать возможные потери, риски экономические, материально-технические.
То есть, допустим, сейчас у нас идет перераспределение осадков: вроде бы годовая норма осадков почти такая константа, но мы видим, допустим, северные реки, водоток там (а все основные реки у нас в Сибири, начиная и Обь, и Иртыш, и Лена), они все туда текут – так вот их приточность увеличилась. В то же время юг, если не только нашу страну брать, а чуть-чуть южнее, Средиземноморский бассейн, то здесь дефицит. Ну и вообще, за последние 20 лет у нас идет распределение...
Павел Гусев: Я прошу вас уже закругляться, потому что, к сожалению, программа не резиновая. Пожалуйста, закругляемся.
Юрий Варакин: Так вот адаптация, она на примере. Если у нас, допустим, вот сейчас случилось такое за 80 и более лет наводнение, значит, плотина должна выдерживать не 5, а, допустим, 10, повышать. Если есть определенные регионы, где у нас дефицит осадков, значит, надо не одно Цимлянское водохранилище, а еще где-то делать. В общем, везде такие вещи есть практичные, в которые, конечно, надо вкладываться заранее.
Павел Гусев: Понятно. Спасибо, спасибо!
Очень надеюсь, что планета наша еще поживет не одно столетие в пригодном для человека климате, не уйдет под воду или не сгорит на солнце. Ну а в ближайшей перспективе желаю всем нам скорее справиться с последствиями любых катаклизмов.
На этом я, главный редактор «МК» Павел Гусев, прощаюсь. Через неделю встретимся.