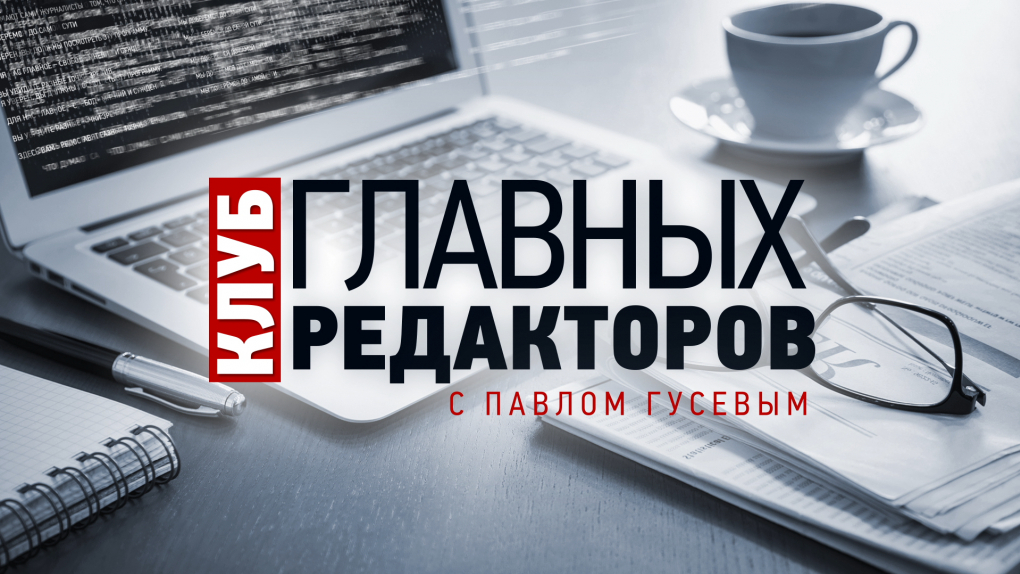Это страшное слово - ЕГЭ?
https://otr-online.ru/programmy/klub-glavnyh-redaktorov/ege-89341.html 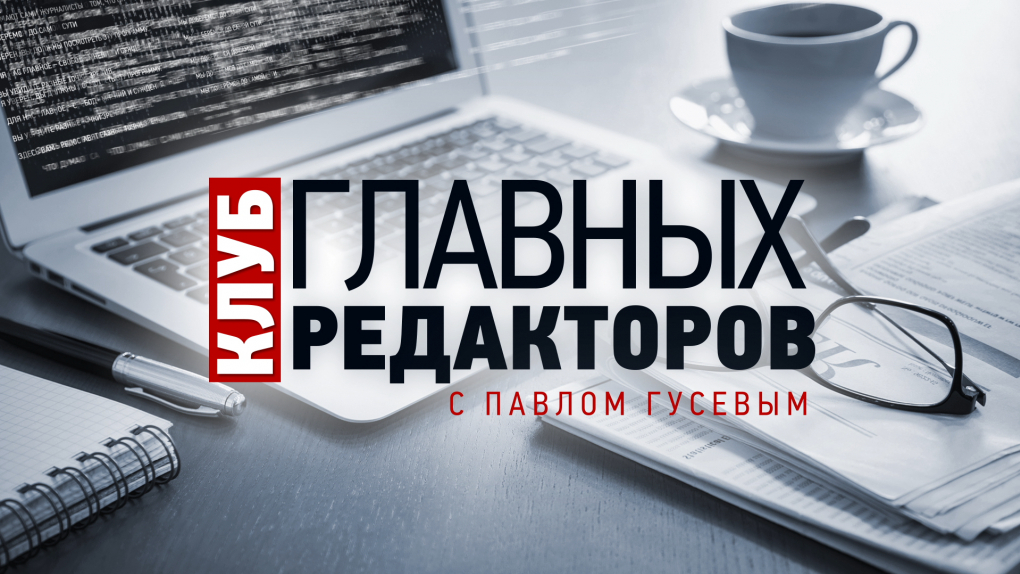
Павел Гусев: Здравствуйте! Я Павел Гусев, и это «Клуб главных редакторов».
На улице стоит май, и с точки зрения погоды аномально холодный. Но есть те, для кого это время – страда, я имею в виду одиннадцатиклассников, которые в поте лица своего вовсю готовятся к сдаче ЕГЭ. И это происходит уже в 16-й раз, начиная с 2009 года, когда данный формат стал основным.
И все эти полтора десятилетия родители школьников, педагоги школ и вузов, работодатели, разделенные на два лагеря, за и против, неустанно ломают копья на поле споров. Сторонники, естественно, восторженно отзываются об этом испытании; противная сторона, наоборот, полагает, что Единый государственный экзамен не выявляет настоящих знаний у школьников.
И вот сегодня я предлагаю поговорить о ЕГЭ, современном дуализме нашего общества.
СЮЖЕТ
Голос за кадром: Более 700 тысяч человек планируют сдавать Единый государственный экзамен в этом году, бо́льшая часть из них – это нынешние выпускники 11-х классов. Но если для одних полученные для экзаменов баллы станут пропуском в студенческую жизнь, то для других могут обернуться самой настоящей трагедией, крушением всех планов на будущее. А значит, не исключены очередные скандалы, связанные с организацией проведения экзаменов, жалобы на несправедливые оценки и, самое главное, вопросы, отражает ли ЕГЭ реальный уровень подготовки школьников и зачем он вообще был нужен.
Идея создания единой системы государственной итоговой аттестации возникла в конце 90-х гг. прошлого века. Тогда же в некоторых российских школах начались первые эксперименты по проведению такой формы сдачи экзаменов, а с 2009-го ЕГЭ стал обязательным на территории всей страны.
За прошедшие годы формат и правила проведения госэкзамена сильно изменились, а вот споры о том, не пора ли вернуться к традиционной форме сдачи вступительных испытаний в институты и университеты, продолжаются до сих пор. Родители, вузовские преподаватели и даже работодатели сетуют на низкое качество знаний у выпускников школ, связывая это с особенностями подготовки к ЕГЭ. При этом сами школьники не так категоричны: среди положительных качеств называют возможность начинать подготовку заранее и большой выбор вузов для поступления.
В списке главных недостатков такой системы итоговой аттестации – сложность некоторых заданий и несоответствие их курсу школьной программы, а также сильная психологическая нагрузка на учеников, справиться с которой удается не всем.
Павел Гусев: Ну что же, попробуем рассмотреть с разных сторон этот камень преткновения. Сегодня о ЕГЭ поговорим с моими гостями:
Арслан Хасавов, главный редактор «Учительской газеты», член Общественного совета при Министерстве культуры России;
Александр Карпов, руководитель программы «Шаг в будущее», доктор философских наук;
Константин Тхостов, директор лицея № 369 города Санкт-Петербурга.
Ну что же, давайте подумаем. Появилась 15–16 лет назад вот эта штука, это произведение не российского исторического прошлого, это появилось... Знаете, когда «слизывают» то, чего есть где-то, и пытаются это сделать... Ну как же, все страны этим занимаются, а мы что, в стороне должны быть?
Как вы считаете, насколько справедливо было исторически когда-то взять и изменить нашу школьную систему подготовки ребят, школьников к своей будущей жизни, к тому, ради чего, в общем-то, они в школе это десятилетие, 11 лет, неважно, проходили? Плюс, минус? Только вот в этом плане, а дальше мы будем уже рассуждать. Пожалуйста.
Арслан Хасавов: Павел Николаевич, действительно, введение ЕГЭ вызывает множество вопросов, и ежегодно, спасибо и вашей программе, и другим площадкам, где эти дискуссии поднимаются... Однако каждый раз, когда мы говорим об отмене ЕГЭ, откате в подходе к тестированию знаний школьников, абитуриентов, нужно задаваться вопросом, на что мы хотим заменить Единый государственный экзамен.
Да, были вступительные испытания в вузах. С одной стороны, это давало больше свободы, профильные направления могли давать более сложные задачи для абитуриентов и набирать наиболее мотивированных и подготовленных абитуриентов. Однако вместе с тем это приводило к своего рода кумовству и коррупции в вузах, давайте об этом тоже не будем забывать.
Павел Гусев: А что, сейчас этого нет?
Арслан Хасавов: Я говорю сейчас не о времени Советского Союза, а все-таки о 1990-х, о 2000-х. Сейчас этого нет. Сейчас, собственно, любой школьник, даже из глубинки, может не выезжая из своего региона, т. е. вне зависимости от толщины кошелька своих родителей и возможностей прочих, связей и прочего, поступить в ведущие вузы. И статистика, кстати говоря, показывает, что ведущие вузы российские, в т. ч. МГУ, Высшая школа экономики, некоторые другие, набирают от 30% ребят из регионов. Это как раз хороший показатель эффекта ЕГЭ.
Павел Гусев: Это действительно так, это действительно так. Но все-таки вы за или против?
Арслан Хасавов: Мы, наверное, дальше об этом поговорим. До того, как ситуация в общем в образовании не скорректируется, в т. ч. за счет развития технологий и цифрового портфолио, я об этом позднее скажу, я за ЕГЭ.
Павел Гусев: Пожалуйста. За или против как итог и... Пожалуйста, ваша позиция.
Александр Карпов: Разговоры о ЕГЭ пошли в 1990-х гг. вместе с ростом частных школ. Здесь явный след коммерциализации образования, о том, что вы говорили: нужно было получать дипломы государственного образца. Ну хорошо, выполнили мы эту функцию, как бы многие были против.
Но и аргументы, вот коллега привел, – доступность поступления в вуз. На самом деле аргумент совершенно пустой. Почему? Представьте себе, что школьник поедет в Москву сдавать экзамены, условно говоря, либо он сдаст у себя. А что, ему потом из Москвы не надо будет домой ездить? Да все студенты, которые учатся, ездят из Москвы туда и обратно. То есть это абсолютно никакого эффекта не производит, ему все равно придется ездить. Так что если уж он сможет приехать один раз в Москву, так, значит, и в следующий раз сможет уехать и приехать.
Но даже если мы говорим о тех редких случаях, когда действительно ребенок остается в Москве, здесь работает и учится в вузе, вопрос простой: а что, он не может сам заработать на поездку? Я вот когда 9-й класс закончил, я почтальоном пошел работать. Мне нужно было девушку в Ленинград свозить – заработал денег и приехал. Это что, проблема? Нет никакой.
Теперь вопрос о кумовстве и... Вы знаете, если у нас есть 5% людей, которые будут обладать социальным капиталом, и они сделают так, что их дети получат хорошие оценки в школе, выше, чем нужно, то это всего лишь 5%. Нам что, из-за этого школу надо было ломать, переформатировать ее? ЕГЭ полностью преобразовал школу под себя: оно дает сейчас оценки того, что оно само заложило, а не оценки, нужные для экономики, для кого-то еще. Вы понимаете, оно стало вещью в себе, если можно так говорить. Поэтому я тоже как бы этот аргумент абсолютно убираю.
И последнее. Ну что же, вообще говоря, альтернативы этому экзамену есть, и достаточно хорошие процедуры есть. Не надо возвращаться к старой советской системе, когда было два экзамена, – просто вопрос, надо о навыках мышления подумать. Ну и совершенно ясно, что это очевидные вещи, которые можно сделать, когда и вузы выиграют, коллега говорил о том, что они будут набирать своих абитуриентов...
Павел Гусев: Да-да-да.
Александр Карпов: ...и со школ это все сойдет. Есть такие схемы. И когда великие люди говорят о том, что «скажите нам, как это», – ну ребят, ну включите мышление.
Павел Гусев: Понятно. Но все-таки как итог – за или против?
Александр Карпов: Катон Старший говорил: «Карфаген должен быть разрушен».
Павел Гусев: Так.
Константин Тхостов: Павел Николаевич, спасибо огромное, что к разговору о школе вы привлекли представителя школы, потому что всегда у нас обсуждается, как надо учить, лечить, но вовсе не с теми, кто это делает непосредственно.
Павел Гусев: Да.
Константин Тхостов: Я сразу за, хотя странно это из уст директора школы слышать. Обосную. Дело все в том, что вовсе не основной причиной моего голосования за является абсолютная свобода в выборе образовательных учреждений высшей системы образования ребятами из других регионов, это одна из возможностей и сильных сторон Единого государственного экзамена.
Да, 16, 18, 20 лет назад, когда ломалась традиционная форма экзаменов, выпускной экзамен, потом вступительный экзамен, мы действительно заимствовали то, что уже было отработано в других странах, и это позволило нам создать некую отправную точку. Сейчас Единый государственный экзамен – это универсальная, уникальная российская разработка, соответствующая запросу на фундаментальность школьных знаний, которая была до революции, была после революции, и то, чем славилось всегда российское образование. Это не угадайка, это не тестирование – это глубокое погружение в аналитику готовности выпускника школы, российской школы, к следующему шагу в высшую систему образования.
Павел Гусев: То есть вы хотите сказать, что вот я заканчиваю школу в советское время и не обладаю глубокими знаниями, потому что у меня не было ЕГЭ и всего, что с ним связано?
Константин Тхостов: Вы обладаете глубинными, фундаментальными знаниями в рамках советской школы. (Я тоже заканчивал советскую школу.)
Но в 1989 году уже наметились очень четкие, системные проблемы в школе. Во-первых, издевательства над теми, кто был неудобен. Если дважды два равно четыре, потому что сказал так учитель, – это пять, а вот если дважды два равно четыре с обоснованием ученика, авторское мнение, позиция ребенка, вот тогда это неуд и прогон через дополнительные испытания.
Коррупция, ведь она не в конвертах – она в головах, и проблема в том, что у нас неудобные дети страдали, это факт. Главная сильная сторона Единого государственного экзамена в том, что контрольно-измерительные материалы обезличены.
Павел Гусев: Ну да.
Константин Тхостов: Нет фамилии, имени того, кто это написал, а значит, это независимая оценка знаний того ребенка, который скрывается под шифром, известным только ему.
Павел Гусев: Совершенно верно.
Ну вот смотрите, вы сейчас достаточно убедительно... Вы практик, вы директор, вы человек, который все это своими пальцами, каждой клеточкой вы ощущаете, вы присутствуете при вот этом процессе. Но если вы так уверены и все так замечательно, почему практически каждый год Министерство просвещения и различные другие структуры вносят изменения в ЕГЭ, причем иногда диаметрально противоположные? Значит, что-то в этой системе не так?
Константин Тхостов: Да.
Павел Гусев: Значит, что-то мы не до конца... ? Вот сейчас мы говорим: это замечательная штуковина, ЕГЭ, и в то же время бам! – каждый год по-новому что-то туда внести. Что?
Арслан Хасавов: Павел Николаевич, действительно, ЕГЭ за годы своего существования развивается, и совсем недавно министр просвещения, вы как раз упомянули ведомство, Сергей Сергеевич Кравцов заявил публично, что после трех лет последних, когда ЕГЭ активно модернизировался, в 2025–2026-х гг. никаких коренных изменений в структуру ЕГЭ вноситься не будет.
Если мы говорим о тех изменениях, которые ранее происходили, то они как раз были связаны с тем, чтобы сделать этот экзамен еще более прозрачным, подготовку к нему еще более публичной. Собственно, Рособрнадзор, который проводит процедуру Единого государственного экзамена, ежегодно проводит огромные марафоны для родительской общественности, собирает обратную связь из регионов, от педагогической общественности, и мы в «Учительской газете» регулярно об этом пишем и мониторим ситуацию.
Действительно, многие регионы вносят свои предложения. Вот ЕГЭ не может быть заставшим. То есть мы, с одной стороны, хотим, чтобы он был прозрачным и открытым, слышал мнения людей, а с другой стороны, мы не хотим, получается, чтобы он модернизировался. Так вот изменения – это ответ на запрос именно граждан, которые, собственно, корректируют его.
Павел Гусев: Это так?
Константин Тхостов: Это абсолютно. Но беда, почему меняется? Во-первых, меняется время, мы технологически опережаем те моменты, которые заложены в традиционные механизмы оценки качества знаний. Появляются различные истории, когда дети могут ими воспользоваться. Но главная беда детей – это взрослые...
Павел Гусев: Потрясающе!
Константин Тхостов: ...которые при любых условиях будут искать выгоду исключительно для себя, формировать возможность для неких дополнительных бонусов себе любимым, и в этом главная проблема детских обществ.
Павел Гусев: Вы хотели?
Александр Карпов: Да, я хотел здесь некоторую тоже справочку дать. Я понимаю, что Константин Эдуардович представитель такой очень хорошей школы, 2 тысячи учащихся. Вот у нас в программе «Шаг в будущее» участвуют каждый год 150 тысяч школьников-исследователей, соответственно, 4–5 тысяч школ, учителя. Я не встречал еще ни одного учителя (а я много контачу), который бы сказал, что ЕГЭ – это хорошо. Это первое.
Второй момент, что касается самого ЕГЭ. Занимается ЕГЭ совершенно какая-то непонятная, посторонняя структура, хотя у вузов, например, есть прекрасный опыт проведения своих обычных экзаменов. Там никого не насилуют, не водят за ручку в туалет, студенты сдают, и все получается, все живет. Опять, если мы говорим о 5% социального капитала, ну и что? Зато ЕГЭ настроил на себя школу массовую, не такую, как у вас, хорошую, а массовую школу, и просто учителя говорят, что невозможно работать в этой системе, потому что все заточены на заучивание.
И я хочу еще одну важную вещь сказать. Дело в том, что, на мой взгляд, ЕГЭ исключило из школы мышление, творческое мышление. А что это значит? Я считаю, что это большой удар по экономике. Давайте я вам приведу пару цифр. Скажем, есть такие глобальные инновационные рейтинги. Так вот у нас прекрасная позиция, 4-я экономика мира мы, правильно? А вот в глобальном инновационном рейтинге мы находимся на 51-м месте, на 59-м в 2024 году, спустились, а рейтинг конкурентоспособности, который считался Всемирным экономическим форумом, в 2009 году – это 43-е место. Это что значит? Это значит, в экономике нет нормального количества мыслящих людей.
Павел Гусев: Совершенно правильно.
Александр Карпов: И что, откуда это пошло? Не от ЕГЭ?
Хорошо, давайте обратимся к PISA. Есть международная программка по оценке достижений учащихся PISA, там есть понятие естественно-научной грамотности, понимаете. Там мы находимся, так сказать, на каком? На очень низком месте, по-моему, последний раз 33-е, 30-е.
Но PISA сама по себе неинтересна для школы для нашей. Дело в том, что там люди говорят: «Вот мы проверяем способность применять знания на практике», – это неправда, потому что там даются модели ситуаций в задачах. Для того чтобы применять знания на практике, нужно модель составить.
Но там есть 5-й и 6-й уровни. То есть PISA интересна для школьников-исследователей, для продвинутых, которые могут создать модель. Так вот в 5-й и 6-й уровни, простите, у нас с 2009 года от изменения к изменению, 5-й и 6-й, высший уровень детей, которые способны что-то создать, уменьшается с каждым измерением.
Павел Гусев: Вот это да.
Александр Карпов: И это, я считаю, хорошее доказательство того, что Единый государственный экзамен негативно влияет на экономику, простите, и на обороноспособность страны тоже, потому что обороноспособность – это технологии.
Арслан Хасавов: Если мы будем опираться на международные сравнительные исследования, PISA, PIRLS и другие, на их показания, которые политизированы, и из года в год эта политизированность по отношению к России возрастала, то ничего хорошего мы не добьемся.
Александр Карпов: Я сказал про 5-й и 6-й уровень, а не про результаты.
Арслан Хасавов: У нас по модели PISA проходят сравнительные исследования в российской школе, и они показывают определенную динамику, здесь это важная ремарка просто.
Павел Гусев: Понятно.
Константин Тхостов: Понимаете, давайте разведем понятия. Единый государственный экзамен – это законодательно закрепленная форма вступительных испытаний в высшие учебные заведения. Что делает школа? Она выполняет государственное задание, она проходит ту образовательную программу, за которую государство платит деньги.
И вот если каждый занимается честно на своем месте своим делом, включая четкое прохождение программы по проектной деятельности, дает возможность ребенку реализовать свои амбиции на любых конкурсных испытаниях не в соответствии с требованиями международных неких форм, PISA и пр., а то, что требует действительно российская экономика и российская система науки фундаментальной, то, к чему мы последние только 3 года начинаем обращать свой взор...
Павел Гусев: Подходить.
Константин Тхостов: Безусловно. Мы же все хотели как там.
Павел Гусев: Понятно.
Константин Тхостов: И вот президент сказал «хватит», убил гидру эту болонскую, которая едва не уничтожила нам систему подготовки квалифицированных [кадров]. Где учитель математики? Мне не нужен бакалавр образования – мне нужен учитель русского языка и литературы, специалист, понимаете.
Павел Гусев: Знаете что? Давайте мы сейчас чуть-чуть остановим этот спор, потому что к нашей беседе подсоединяется Ольга Леткова, президент Ассоциации родительских комитетов и сообществ. Добрый день, Ольга Владимировна.
Ольга Леткова: Здравствуйте.
Голос за кадром: Ольга Владимировна Леткова – председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, директор общественного центра правовых экспертиз и законопроектной деятельности.
Павел Гусев: У нас идут прения по поводу ЕГЭ. А поскольку вы представляете не самую последнюю, пожалуй, самую заинтересованную категорию, родителей, то было бы здорово услышать мнение, которое по этому поводу бытует в вашем сообществе. Кстати, вы-то сами какую позицию занимаете, за или против?
Ольга Леткова: Давайте так я скажу, я отражу лучше не свое личное, а мнение все-таки широкой родительской общественности, которое, конечно, имеется по такому животрепещущему вопросу.
С одной стороны, безусловно, очень правильно говорят о том, что ЕГЭ – это натаскивание на тест, это зазубривание, это приводит к отсутствию широких, фундаментальных знаний, просто к зазубриванию билетов. При этом отсутствует аналитическое мышление, способность творчески себя проявлять без страха, боязнь ошибиться в любом, в каждой мелочи, потому что форма ЕГЭ очень строгая: если ты не так слово скажешь, не так приветствие сделаешь, допустим, по английскому, тебе уже все, снижают баллы. То есть никакого простора для творчества нет. Это, безусловно, не удовлетворяет родителей. Абсолютно точно большинство родителей против ЕГЭ.
Но есть другой момент. ЕГЭ – это в то же время экзамен в институты, и многие родители, которые живут в регионах, хотели бы все-таки сохранить для своих детей возможность поступления в вузы, не выезжая из региона. Вот здесь вот есть проблемы. Если просто отменить ЕГЭ, то тогда те очевидные плюсы, которые он тоже дает, исчезают.
Если говорить о том, чтобы ЕГЭ отменить, а родительская общественность настаивает на том, что ЕГЭ нужно будет отменить, пусть постепенно, но нужно, необходимо, чтобы школа все-таки давала нормальные знания детям, способность их усваивать и реализовывать... Действительно, нам нужны хорошие научные кадры, у нас сейчас новые задачи у нашего государства, это, безусловно, нужно менять нашу систему образования, мне кажется, даже спорить об этом нет смысла.
Другое дело, что, может быть, придумать какую-то систему, когда на базе тех же школ дети могли бы сдавать вступительные экзамены в вузы дистанционно или еще как-то. Вот об этом надо подумать.
Павел Гусев: Скажите, пожалуйста, по некоторым статистическим данным, практически треть, а иногда даже приводится и большее в среднем количество людей, родители недовольны в целом школьным образованием, недовольны тем, как происходит обучение, и, конечно, много камушков кидается в ЕГЭ.
Ольга Леткова: Да, недовольны, действительно недовольны, потому что в системе образования очень много...
Павел Гусев: А чем? Вот почему недовольны?
Ольга Леткова: Сейчас объясню тогда. Если речь идет о системе образования, наверное, самая главная претензия заключается, наверное, в непродуманности программ. Очень серьезная нагрузка на детей, но при этом она неоправданная, там много информации, которая детям вообще не нужна, но хромают базовые знания, необходимые каждому ребенку знания. То есть мы не присваиваем знания – мы гонимся как раз за какими-то показателями, которые детям не нужны, для того чтобы натаскать детей вот опять же на это пресловутое ЕГЭ. Непродуманность школьных программ – это самая главная болевая точка для родителей.
Павел Гусев: Понятно. А вот у нас директор школы хочет вам что-то сказать.
Константин Тхостов: Павел Николаевич, спасибо огромное.
Первое. Есть парадигма, которая должна исполняться, тогда ребенок не будет перегружен, хотя и в советское время он был перегружен, и в царской России он был перегружен, и всегда была плохая образовательная программа: учитель – учит, ребенок – учится, семья – любит и воспитывает.
Когда учитель перекладывает на семью процесс обучения или на репетитора, вот здесь начинаются проблемы у ребенка, мы крадем его личное время. Вместо того чтобы прийти и освоить материал в школе, он дальше начинает либо в нем самостоятельно разбираться, либо прибегать к помощи родителей, либо к помощи сторонних организаций или людей, и в этом, конечно, основной порок современной школы, который нужно искоренять, и уже процесс искоренения пошел. Учитель учит, ребенок учится, семья любит и воспитывает.
То, что вы упомянули про натаскивание. Я напомню всем нам, мы же поступали в советские высшие учебные заведения. Помните книжечку «Вопросы к вступительным для поступающих в вузы»?
Павел Гусев: Да, было!
Константин Тхостов: Мы не учили ответы на эти вопросы, нет? Мы не зазубривали их? Мы не учили наизусть сочинения, которые... ?
Павел Гусев: Было такое.
Александр Карпов: Нет, простите, я возражаю.
Константин Тхостов: Да, пожалуйста, конечно.
Александр Карпов: Абсолютно нет.
Ольга Леткова: Я могу ответить на вопрос, который коллега задал?
Константин Тхостов: Да.
Павел Гусев: Давайте вот сейчас.
Константин Тхостов: Я просто закончу фразу. Поймите, в любом случае вступительное испытание – это процесс, который требует определенной подготовки, натаскивание ли, заучивание ли. Но главное – понять, что если школа сфокусирована на ЕГЭ, она не выполняет свое государственное задание, это зло.
Павел Гусев: Да.
Константин Тхостов: Если ты дал знания, которые можно потом сформировать в ответ на вступительный вопрос, это правильная позиция. Главное, чтобы каждый занимался своим делом, тогда не будет проблем.
Павел Гусев: Пожалуйста.
Ольга Леткова: Я хотела сказать примерно то же самое. Я хотела сказать о том, что ничего зазорного в том, что дети учат ответы на билеты, когда они поступают в вуз, но не когда они в школе учатся. В школе надо давать просто обычные, нормальные знания для уровня школы, а не в вуз они должны поступать, когда они заканчивают школу. Школа должна быть закончена одними, это могут быть не экзамены даже, а просто средний балл, допустим, а вот в вуз нужно поступать, это отдельная тема должна быть.
Александр Карпов: Я абсолютно солидарен с этой позицией, могу добавить.
Ольга Леткова: Нельзя это совмещать. Нужно разделить обучение в школе и экзамен, допустим, об окончании школы и поступление в вуз.
Павел Гусев: Ольга Владимировна, сейчас вот еще...
Александр Карпов: Я абсолютно солидарен с этим, я про это начал говорить. Во-первых, коллеги, вы не услышали про PISA и про все остальные: я не сказал, что им надо следовать, а я сказал, что там есть 5-й и 6-й уровни и все, что они являются индикаторами, а все остальное – это вредно, по крайней мере PISA глупости говорит. Ладно, я это изучал.
Теперь по поводу подготовки к экзаменам в советское время. Вы знаете, правильно коллега сказала – да не заучивали мы билеты. Нам всего за три месяца где-то учителя начинали рассказывать о том, что у вас будет, ребята. Мы учились сами прекрасно. Простите, я несколько школ прошел, я могу вам сказать – не было этого. В вузе заучивание... Извините, простите, вы математику не сможете заучить. Как вы ее заучите? Там нужно формулы заучить, а остальное решение – это совсем другое, это применение формул.
И знаете что? Вот когда вы говорите о том, что в школе... Я с коллегой солидарен, что в школе не должно быть экзамена, и это говорил еще Дмитрий Иванович Менделеев. Экзамена в школе, например, нет в 27 американских штатах, и во Франции могут не сдавать экзамены в школе. А почему мы-то это делаем?
Константин Тхостов: Так мы в школе не сдаем экзамен.
Александр Карпов: Простите меня, это одно и то же. Переведите экзамен в вуз, у вас никаких проблем не будет. Не будет вот этого безобразного, то, что в Воронеже случилось, не будет этого давления психологического, не будет этого формализма. Каждый вуз... Они могут объединиться в коалиции, понимаете, это будет десять вузов одна, десять вузов другая, они могут сделать общие приемы. Может быть больше, можно... Просто чтобы засчитывались баллы одних ниже других...
Павел Гусев: Есть психологические нагрузки.
Арслан Хасавов: Давайте про международный все-таки опыт. Если мы международные сравнительные исследования вспоминаем, давайте посмотрим, что происходит в Объединенных Арабских Эмиратах, в Сингапуре, где есть жесткие централизованные тесты, которые привязаны к школьным профилям. То же самое происходит в США, в Великобритании, базовые тесты и т. д.
Александр Карпов: Они во многих странах есть, да. Естественно, есть. А почему мы должны им следовать?
Арслан Хасавов: Нет, вы...
Александр Карпов: У нас есть своя культура.
Арслан Хасавов: Безусловно.
Александр Карпов: И мы должны следовать, как коллега сказал, именно ей.
Арслан Хасавов: Нет, тут нужно определиться: либо мы говорим о тесте... Дискуссия...
Александр Карпов: Драться не будем.
Павел Гусев: Ольга Владимировна, как вы к этому относитесь?
Ольга Леткова: Что именно имеется в виду?
Павел Гусев: Я имею в виду к тому, что вот сейчас возникает спор по поводу того, к чему мы должны стремиться, ЕГЭ, экзамены или все-таки вернуться к советской школе и радоваться жизни?
Ольга Леткова: Вернуться на 100% к советской школе не получится, к сожалению, хотя я считаю, что советское образование было очень хорошим. Но мы должны разделить, безусловно, поступление в вуз и учебу в школе.
Александр Карпов: Абсолютно правильно.
Ольга Леткова: Советская школа давала хорошие, серьезные знания детям, на основании которых они могли поступать, уже дальше выбирая свой жизненный путь, в любой вуз.
Павел Гусев: Спасибо вам большое, Ольга Владимировна! Спасибо за участие в нашей беседе, программе. Успехов вам! Спасибо!
Ольга Леткова: Спасибо! Всего доброго!
Константин Тхостов: Мы имеем то, что имеем. С одной стороны, родители хотят, чтобы дети вступительные экзамены в вузы сдавали в школе, с другой стороны, ратуют за советскую систему, когда в школе сдаются выпускные экзамены.
Павел Гусев: Совершенно верно.
Александр Карпов: Нет-нет, такого не было, коллега так не говорила. Она говорила, что в школе не нужны экзамены, насколько я понял.
Константин Тхостов: Это уже потом. Коллега сказала, что в школе вообще не нужны экзамены.
Александр Карпов: Правильно.
Константин Тхостов: Я просто хочу задать один вопрос: почему мы считаем нормой, мы, взрослые, не имеющие отношения к детству, обсуждать, что хорошо детям? Давайте спросим у них, хотят ли они спустя 11 контрольных работ, изложений, сочинений, испытаний различного типа еще что-то доказывать своим учителям?
Александр Карпов: Не надо. Пусть им поставят среднюю оценку, коллега говорила.
Константин Тхостов: Ни к чему выпускные экзамены из школы, мне кажется, здесь очевидно.
Александр Карпов: Не нужны. Так никто за них не говорил.
Константин Тхостов: Вступительные экзамены в России, в Советском Союзе были, это наша традиция. Есть опыт зарубежных стран, где нет вступительных испытаний, поступают все желающие, дальше отсеиваются методом естественного отбора.
Наша эта система, не наша – давайте мы не будем ломать свои традиции и следовать тому, что можно усовершенствовать, главное, не добавляя туда свои личные амбиции. Ведь сколько у нас стобалльников, сколько у нас трехсотбалльников – это пошли амбиции регионального уровня. Слава богу, благодаря Народному фронту убрали из рейтингов губернаторов Единый государственный экзамен. Но находятся уже ушлые горячие головы, которые начинают манипулировать поступлением детей в престижные вузы неким балансом и помощью при подготовке.
Павел Гусев: Есть такое.
Константин Тхостов: Давайте сделаем так: школа – это то место силы ребенка, где он получает опыт и знания. Его выбор предопределен опять же работой школы в профилизации и профориентации. Но главной движущей силой для ребенка, на мой взгляд, является семья.
Павел Гусев: Это очень правильно вы сказали сейчас, семья – основа все-таки. Я вот папа, как, наверное, и многие наши слушатели, мамы, папы, и я на своих детях почувствовал очень, знаете, такое хорошее бремя школьного образования, потому что приходилось где-то вытаскивать, где-то жестко, а где-то гладить по головке.
Константин Тхостов: Да, так и есть.
Павел Гусев: Так оно, наверное, и должно быть.
Скажите мне, пожалуйста, а где появился ЕГЭ?
Константин Тхостов: Это опыт зарубежных стран.
Павел Гусев: Ну где? В какой стране?
Константин Тхостов: Вы знаете, очень сложно сказать, я в историю не вникал. Но и Китай использует ЕГЭ, причем там очень жесткие условия, которые, не дай бог, придут к нам...
Павел Гусев: А я вам отвечу, где, – в Соединенных Штатах Америки.
Константин Тхостов: Да.
Павел Гусев: Это одна из первых стран, которая вводила ЕГЭ. А знаете, почему она вводила ЕГЭ?
Константин Тхостов: Нет.
Павел Гусев: Я тоже могу ответить вам на этот вопрос, потому что я читал, мне было это очень интересно, не к передаче готовясь, а заранее. Они придумали ЕГЭ, потому что в американских школах, особенно в ряде штатов, такое количество темнокожих, латиноамериканцев, которые по-английски говорят достаточно с трудом зачастую, и многих других, так скажем, не чистокровных вот этих вот англосаксов и американцев, которые, значит, создавали вот эту страну. И тогда, как мне рассказывали, они придумали это ЕГЭ, потому что ЕГЭ был как бы квинтэссенцией и там можно было задать разные вопросы...
Александр Карпов: Уровень.
Павел Гусев: «Какого цвета бывает хлеб?» – и мальчик из латиноамериканской семьи пишет: «Черный, белый...»
Константин Тхостов: Галочку ставит.
Павел Гусев: Или галочку ставит, да. Все.
Константин Тхостов: Так у нас было в первые годы, это правда.
Павел Гусев: Все, вперед, ты сдал ЕГЭ. И вопросы эти готовились для разных ситуаций, штаты и пр., пр.
Нам нельзя идти от отрицательного опыта, понимаете, – нам нужна своя внутренняя, российская система, которая, на мой взгляд, основана прежде всего на истории школьного образования, на истории создания уникального педагогического коллектива, который по всей стране есть.
Константин Тхостов: Павел Николаевич, вы абсолютно правы, и экзамен по математике если мы рассмотрим, профильный экзамен по математике, поверьте мне, для того чтобы его решить, нужно обладать поистине фундаментальными знаниями по этому предмету.
Павел Гусев: Вот.
Константин Тхостов: Это правда, это наша на сегодняшний день разработка. Она совершенствуется и будет совершенствоваться, потому что те задания, которые на сегодняшний день соответствуют запросу российского общества, поверьте мне, требуют очень важного предназначения как у учителя, так и ответственности у ученика.
Важно, что наши дети не ставят галочки и не отвечают односложно – они фундаментально подготовлены, для того чтобы сделать свой следующий шаг в будущее. Да, эти шаги мы делаем только последние годы, когда отсекли все то, что нам навязывалось, прививалось, проплачивалось. Сейчас другое время, время нашей российской образовательной идентичности.
Александр Карпов: У меня внучка учится – вы знаете, она вот все в том времени учится, о котором вы говорите.
Константин Тхостов: Вопрос к моему коллеге, почему.
Александр Карпов: Я думаю, что говорить о том, что это государство и поэтому мы должны это исполнять, – это неправильно. Мы должны говорить о том, что мы должны говорить государству, что желательно иметь. Это наша, извините, нравственная обязанность.
И я полагаю, что, когда говорят о советском вузе и говорят, что были трудности, что там было мало... У нас в группе, я был старостой, большинство иногородних в МВТУ было и в других группах тоже, понимаете, и нет здесь проблемы. Еще раз хочу повторить: нет проблемы приехать, это выдумка!
Константин Тхостов: А жить где?
Александр Карпов: Работай и живи!
Константин Тхостов: А-а-а...
Александр Карпов: Или родители тебе оплатят это. Все равно же нужно оплачивать это будет.
Константин Тхостов: Нас сейчас смотрят регионы.
Павел Гусев: К нашей беседе присоединяется Алексей Демидов, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Добрый день, Алексей Вячеславович.
Алексей Демидов: Добрый день.
Голос за кадром: Алексей Вячеславович Демидов – председатель межрегиональной общественной организации «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области», ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.
Павел Гусев: Сегодня говорят о серьезном дефиците учителей. По некоторым подсчетам, в школах не хватает несколько сотен тысяч педагогов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин привел недавно такие цифры: нехватка учителей математики составляет 33%, физики – 24%. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что за 5 лет нужно подготовить или вернуть в профессию 200 тысяч школьных преподавателей, т. е. ежегодно нужно готовить 40 тысяч новых специалистов. Есть у наших вузов такие возможности?
Алексей Демидов: На мой взгляд, проблема действительно очень серьезная и у вузов такие возможности есть. Другой вопрос, что не все заканчивающие вуз по педагогическим специальностям, к сожалению, идут на работу, и это реальная проблема, которую, как мне кажется, надо решать в ближайшие годы.
Павел Гусев: Скажите, как вы здесь видите все-таки роль подготовки, т. е. специализации? Нужно ли делать специализацию учителей настолько подробно, чтобы вот как бы по косточкам разбирать, или все-таки готовить учителей, которые могут как бы охватывать большее количество предметов?
Алексей Демидов: Вы знаете, по точным наукам, мне кажется, специализация, безусловно, должна быть очень ярко выражена. По гуманитарным, конечно, мне кажется, более широкий спектр совершенно оправдан.
Арслан Хасавов: Алексей Вячеславович, вот вам как ректору вуза, если позволите, вопрос вам задам. Скажите, а как решить эту проблему? Вот действительно, многие студенты учатся на педагогических специальностях за бюджетные в т. ч. средства, получают свой диплом о высшем образовании, государство рассчитывает на них, учитывает в своих статистических выкладках, прогнозах и пр., а потом они принимают решение не работать по специальности. Как все-таки мотивировать их оставаться в профессии?
Алексей Демидов: Дело в том, что здесь вопрос ведь связан с возможной работой в других регионах, а, скажем, не в том регионе или не в том городе, где, собственно, обучались студенты, особенно педагогического направления. Мы помним прекрасно, что в советское время т. н. распределение, когда было необходимо отработать определенное время, до 3-х лет, на конкретном направлении, извините, в деревне, в небольшом городе. Сейчас этого нет, но реальная проблема и реальный вопрос, что механизм, безусловно, надо создать.
Приведу такую яркую иллюстрацию, пример. С 1 мая прошлого года внесены изменения в порядок целевого приема, когда даже по целевому приему студент обучается, при этом он знает место, куда в будущем должен пойти, и даже в этом случае далеко не всегда по целевому приему студент в итоге приходит на то место работы, которое необходимо.
Извините, скажу достаточно традиционную и, наверное, неудивительную вещь: конечно, зарплата педагога, к сожалению, в школах еще, на мой взгляд, недостаточного уровня для того, чтобы в педагоги шли хотя бы больший процент от тех, кто заканчивают педагогические вузы. Это серьезная проблема, и в каждом регионе она решается по-своему.
Павел Гусев: Скажите, а как вы вообще относитесь сами как ректор к ЕГЭ?
Алексей Демидов: Вот когда мы говорим о ЕГЭ, мне кажется, два вопроса, которые заключены в ЕГЭ, как будто порой почти, может быть, ошибочно смешиваются.
О чем идет речь? ЕГЭ как единая аттестация – это положительная ситуация, потому что в школах, естественно, оценить, как подготовили школьника, не сама школа должна оценивать. А вот то, что ЕГЭ, к сожалению, в тестовой форме, то, что ЕГЭ, к большому сожалению, дается фактически одна попытка по предмету, – это, конечно, мне кажется, можно многое здесь предпринять. Во-первых, ЕГЭ не должно быть в тестовой форме по большинству предметов.
Константин Тхостов: Он уже не в тестовой форме.
Алексей Демидов: Во-вторых, и это, мне кажется, очень важно, я бы предложил сдавать ЕГЭ две или три попытки, чтобы у наших абитуриентов не было ощущения, что вот сегодня уже нет другой возможности. В конце концов, для детей это реально, ну, не скажу стресс... Вот если, предположим, будет известно, что в течение месяца можно сдать ЕГЭ по трем предметам, в следующий месяц – еще раз по трем, потом выбрать из бо́льших оценок, например так.
Павел Гусев: Интересная ваша мысль, очень интересная. Вот директор школы у нас здесь, вот он натуральный директор школы. Как ваша позиция по этому вопросу?
Константин Тхостов: ЕГЭ все-таки уже не тест. Но самое главное, президент ведь услышал и детей, и родителей, и с прошлого года одна возможность пересдать предмет уже есть, в прошлом году уже ребята пересдавали, и были те самые случайности, которые позволяли снивелировать вот эти ошибки и нормально зайти в высшее учебное заведение. Но если мы этот процесс введем в некую бесконечность, боюсь, что высшие учебные заведения набор закончат к Новому году. Поэтому давайте ограничимся позицией президента Российской Федерации, основанной на мнении общества.
Арслан Хасавов: Ну и учителя разбегутся. Все-таки проведение Единого государственного экзамена – это дополнительная нагрузка. Вот мы говорим о том, что нужно привлекать, а с другой стороны, еще дополнительную нагрузку хотим на них возложить. Здесь, конечно, очень тонкий баланс и тонкая грань.
Павел Гусев: Вот видите, какие позиции.
Алексей Демидов: Я прошу извинить, но вот скажу здесь. Вот помню еще время еще до системы ЕГЭ, когда были т. н. репетиционные экзамены, которые сдавались в мае, это было.
Константин Тхостов: Да.
Алексей Демидов: Была возможность сдавать их потом в июле... И вот в этом смысле, скажу так, как раз когда реальная попытка одна, сколько раз мы знаем, что даже, предположим, талантливый по какому-то предмету абитуриент, школьник вот конкретно в этот день ну объективно растерялся... Тем более что сдача эта в другой школе обычно, в обстановке достаточно непривычной.
И вот напомню, что называется, хорошо забытое старое. Когда был еще период репетиционных экзаменов, это давало свой эффект. Повторяю, говорю свое мнение: на мой взгляд, в вопросе ЕГЭ два вопроса. Один – единая аттестация, да, а вот в тестовой форме – нет.
Александр Карпов: Можно вопрос задать?
Павел Гусев: Да, пожалуйста-пожалуйста.
Александр Карпов: А как вы относитесь к тому, что все-таки экзамен перевести в вуз? Причем чтобы был устный экзамен, когда можно с ребенком было побеседовать? Может быть, тогда и письменный не понадобится? Я понимаю, на вузы нагрузка большая, – а если вузы объединятся? Это же гораздо более спокойная система сдачи. В общем-то, как говорится, здесь не надо будет водить детей как-то под конвоем. В вузах есть огромный опыт проведения обычных экзаменов – почему мы это не делаем?
Алексей Демидов: Вы знаете, я все-таки в этом смысле за единую государственную аттестацию, форма которой должна измениться. Экзамены в вузах, помню опять же как ректор, мы это проходили, где разность оценки в каждом вузе достаточно серьезная.
Константин Тхостов: Разная, это правда.
Павел Гусев: Понятно...
Константин Тхостов: Павел Николаевич, я, по-моему, нащупал главную проблему Единого государственного экзамена – отсутствие достоверной информации у общества.
Павел Гусев: Может быть.
Константин Тхостов: Вот нам нужно популяризировать то, что является уже российским достоянием ровно потому, что это общий вклад и Совета ректоров России, это и общий вклад системы образования, это колоссальная работа, которая должна открыть обществу глаза. Это российский продукт. Да, он будет совершенствоваться, но он удобен для экономики страны, для тех, кто учится, и для тех, кто учит.
Павел Гусев: Вот видите, какое заключение нашей с вами беседы подвел директор школы, практик.
Скажите, а вот вы заметили за последнее время, что студенты стали более, так скажем, шире, с широким более охватом знаний приходить в вуз? То есть не узкоспециализированные какие-то ребятишки, которые готовятся [], а они более глубоко, знаете, входят в жизнь, взрослеют?
Алексей Демидов: Скажу откровенно – не заметили. То есть в любом случае на реальном уровне, который есть сейчас, последние годы абитуриенты приходят в вуз примерно с тем уровнем знаний, который не изменился за последний, скажем, 5-летний период.
Естественно, есть по разным направлениям и по разным специальностям изменения, потому что, скажем, на творческие специальности, где сдают тем не менее экзамены все равно в вузах, это, конечно, играет роль, потому что изменения есть по уровню подготовки. В целом же по ЕГЭ, невзирая на баллы, ведь баллы опять же могут в зависимости от сложности заданий каждый год отличаться... В целом, в общем-то, не могу сказать, что уровень как-то изменился в бо́льшую или в меньшую сторону.
Павел Гусев: Ну что, спасибо вам большое за участие в нашей программе! Спасибо от наших телезрителей за ваши разъяснения и вашу позицию! Она очень, знаете, вызывает уважение большое. Спасибо вам большое, спасибо!
Алексей Демидов: Спасибо.
Павел Гусев: Ну что, коллеги, вот я чем дальше... Я вот думаю: чем дальше мы с вами беседуем, тем больше мне, с одной стороны, нравится ЕГЭ, я прямо уже в восторге от того, что происходит. Но я вот так представляю, если бы мне сейчас сказали: «Павел Николаевич, вот через месячишко ЕГЭ сдавать», – я бы, наверное, не сумел подготовиться для того уровня, чтобы сдать ЕГЭ, мне так кажется, вот я клянусь. Я смотрю и учебники...
Арслан Хасавов: Павел Николаевич, действительно, если мы говорим уже о будущем, если я правильно ход ваших мыслей прочел...
Павел Гусев: Да.
Арслан Хасавов: …то, конечно, время не стоит на месте и технологии не стоят на месте.
Вот я как главный редактор «Учительской газеты» много общаюсь с региональными министрами, езжу в регионы, и у нас в ряде регионов, хочу тоже напомнить телезрителям, уже проводится эксперимент, это прежде всего Москва, Подмосковье, Татарстан, где работают пилотные проекты по цифровому портфолио, когда достижения школьника на протяжении тех лет, которые он обучается в школе, его результаты различных экзаменов, тестов и пр., аккумулируются в одном месте и в финале должны быть представлены в виде какой-то единой оценки всего его вклада, в общем-то, в процессе обучения.
И конечно, когда эти технологии достигнут своего какого-то допустимого такого уровня, они будут приняты, я думаю, на уровне федерации и уже сами по себе экзамены как вот такая черта будут просто не нужны, потому что все о выпускнике школы, об абитуриенте будет понятно по этому цифровому портфолио. Это облегчит, конечно, жизнь и школьников, и преподавательского состава, и вузов.
Александр Карпов: Я абсолютно не согласен с этим, потому что «В это прекрасное время Уж не придется жить ни мне, ни тебе», как говорил наш поэт. Нет, конечно.
Дело в том, что все эти вещи требуют, чтобы дети занимались дополнительно. К сожалению, это невозможно, потому что большинство из них просто не имеют этого времени, и эта школа установлена на натаскивание. Школа требует, чтобы они отвечали вот так, так и так, что именно с точки зрения того, как это дается как движение к ЕГЭ. Я говорил вам о том, что ЕГЭ сформировало модель современной школы, и как бы мы ЕГЭ ни меняли, эта модель, которая была сформирована не сейчас, а тогда, когда, вы говорите, было все плохо, эта модель обладает очень большой устойчивостью...
Как бы вы ЕГЭ ни меняли, эта модель будет жить, учителя будет направлены, наставлены на натаскивание, это будет происходить, как бы вы ни меняли ЕГЭ. Чтобы убрать вот эту негативную ситуацию в школе, когда у нас дети вынуждены заучивать... вам учителя лучше расскажут... нужно убрать первоисточник того, что было. Может быть, сейчас это не дает уже такого эффекта, но все равно модель будет жить. Вы поймите, это обычный, так сказать, социологический взгляд – вы никуда не денетесь от этой модели.
Павел Гусев: Ну да...
Александр Карпов: Улучшайте ЕГЭ, не улучшайте – школа застынет в той модели, которая была составлена по американским лекалам, как вы говорите. В общем, да, в Америке как формула образования? Очень простая: образование хорошее для небольшого числа, а для остальных как бы образование.
Павел Гусев: Пожалуйста.
Константин Тхостов: Я как раз не говорю про американские модели, я их отвергаю и говорю спасибо президенту за отрубленную голову гидре болонской, понимаете.
Павел Гусев: Культура фастфуда такая.
Константин Тхостов: Здесь вопрос не в этом. Но я представляю, как подпрыгнули сейчас главы регионов, где до сих пор интернет не в каждой школе есть. Я двумя руками за цифровое портфолио. Более того, я двумя руками за то, чтобы мои коллеги вспомнили о своем главном предназначении – это организация той среды, в которой ребенок развивает свои способности. Неспособных детей не бывает, шаблонными по заучиванию в традиционной форме экзаменов делали их мы, «дважды два равно четыре, потому что я так сказал».
Павел Гусев: И все, да-да.
Константин Тхостов: Нет, он [ученик] имеет право на свою точку зрения, доказательную, обоснованную, это современные дети. Современная образовательная среда – это уникальное достижение Российской Федерации.
Александр Карпов: Фантастика просто!
Константин Тхостов: Ну послушайте...
Александр Карпов: Я вас слушаю... Наверное, в вашем лицее это есть.
Константин Тхостов: Нет, он не мой – он государственный, это первое.
Александр Карпов: Я знаю, что это фантастика, что по всей стране этого нет и не будет, пока существует такая форма.
Константин Тхостов: Арслан не даст соврать: в каждом регионе есть множество новых школ, построенных в последнее пятилетие по новым российским стандартам образования и по новым стандартам качества. Я вам говорю о петербургской школе. Эти школы есть в каждом регионе, они делают то, что обязаны делать, мы выполняем государственное задание.
Александр Карпов: Математически это множество меры ноль на общем пространстве.
Константин Тхостов: Это не натаскивание. Математическое образование развивается...
Александр Карпов: Математически есть формула такая: множество меры ноль. Так вот отдельные школы в каждом регионе, отдельные! Мы говорим о массовом образовании, о массовом образовании.
Константин Тхостов: Мы и говорим о массовом образовании.
Александр Карпов: Это другое совсем, оно по другим законам живет. И не нужно говорить о государственном задании: мы влияем на государство, мы – часть государства и общества, не надо закрываться вот этим. Не надо говорить, что «нам приказали, мы идем дружными рядами». Давайте по-другому – давайте просто посмотрим, а что мы можем сделать другое что-то.
Константин Тхостов: Первое: если мы хотим что-то изменить, давайте изменять изнутри, а не извне.
Арслан Хасавов: Вот Российская академия наук предложила как раз, извините, создать опорные школы как раз для талантливых ребят...
Александр Карпов: Это уже 20 или 15 лет назад, по-моему, было.
Константин Тхостов: Оно было, есть и будет, безусловно.
Арслан Хасавов: Нет, это совсем новое, сейчас это на новый виток выходит...
Павел Гусев: Скажите, пожалуйста, вот вы как директор школы, вы как журналист, вы как ученый, вот все мне говорят, у меня очень много знакомых, у которых дети есть и такие, и такие, даже уже пенсионеры практически дети есть... Скажите, пожалуйста, вот все говорят, что как только приближаемся к 10-му классу, впереди 11-й, копим деньги на...
Александр Карпов: ...репетиторов.
Павел Гусев: ...преподавателей, которые начинают штудировать ребенка, уже не как бесплатное образование, а из кошелька своего достаем: этому – столько, этому – столько, по математике так, по этому – так и т. д. и т. п.
Александр Карпов: Абсолютно правильно.
Павел Гусев: А это почему происходит?
Константин Тхостов: Потому что школа на сегодняшний день до сих пор закрыта от родителей, от общества. У меня так не происходит, я объясню почему. Еще до пандемии мы начали отработку абсолютно открытого образовательного пространства. В школе висят камеры, микрофоны, для того чтобы ребенок, если он заболел, имел возможность посмотреть этот урок от своего учителя, а не от мамы или от репетитора.
Павел Гусев: Ах, как интересно!
Константин Тхостов: Репетиторы в таких школах не нужны. Образовательная среда должна быть открытой и понятной для общества.
Павел Гусев: Ох, как интересно!
Константин Тхостов: Ровно так же, как информация о Едином государственном экзамене. Чем больше информации, тем меньше домыслов.
Павел Гусев: Но тем не менее, согласитесь, родители денежки складывают.
Константин Тхостов: Где-то складывают, потому что школы до сих пор закрыты.
Арслан Хасавов: Действительно, денежные средства выкладываются на репетиторов, это огромный теневой рынок, это большая проблема.
Константин Тхостов: Надо бороться с этим.
Арслан Хасавов: Но необходимость привлечения репетиторов обусловлена в т. ч. просто стрессом и желанием улучшить результат, который, может быть, и без того был бы неплохим.
У нас, я напомню, в прошлом году, на стыке 2024-го и 2025-го, на законодательном уровне была запрещена разница между заданиями в ЕГЭ, потому что ранее они проскакивали, и общеобразовательной программой по федеральному государственному образовательному стандарту. Сейчас все задания Единого государственного экзамена соответствуют той программе, которая проходится в образовательной организации. То есть если ты просто нормально, вдумчиво обучаешься, ты должен иметь возможность на высокий балл сдать Единый государственный экзамен.
Если ты в этом не уверен, ты хочешь подстраховаться дополнительно и так далее... Это как в спорте: есть просто футболист, а есть Криштиану Роналду, потому что он тренируется в 2–3 раза больше, чем остальные. Собственно, вот и вся история.
Константин Тхостов: Да.
Александр Карпов: Это абсолютно не соответствует действительности.
Я вырастил двух детей, простите меня, обычное время, вот когда все это и происходило, и у меня дочка старшая с серебряной медалью школу закончила. Ей нужно было бояться или не бояться? Ей нужно было просто подготовку пройти дополнительную, потому что школа не давала того.
Младшая дочь просто терпеть не могла русский и литературу, и мне посоветовали на 11-й класс московский мои коллеги нанять, именно на 11-й, нанять репетитора, их коллегу. Вы знаете, за год ребенок стал писать сочинения и читать книги. Это что же такое-то? Это что?
Вы же понимаете, о чем речь-то идет, – нет такого! Это фантастика, то, о чем вы рассуждаете! Это в вашей голове! Страна огромная, это не одна ваша школа, не десяток, не тридцать, не пятьдесят – это огромное число!
Константин Тхостов: Так должно быть.
Александр Карпов: Так вот давайте жить не так, как должно быть.
Константин Тхостов: А как? Платить деньги репетиторам?
Александр Карпов: Нет. Не ссылаться на государственные требования...
Константин Тхостов: Как это?
Александр Карпов: ...а жить так, чтобы придумать такую систему... Это несложно, я уже вам ее...
Константин Тхостов: Придумайте. Вы ученый – придумайте.
Александр Карпов: Я рассказал про нее вам только что, вы не слышали? Я вам рассказал: отсутствие экзаменов в школе и группировка вузов, перенос экзаменов в вузы. В первую очередь устный...
Константин Тхостов: Это советская система.
Александр Карпов: Нет, не советская. Отсутствие экзамена в школе.
Константин Тхостов: Хорошо.
Александр Карпов: Группировка вузов, которые будут по всей стране, МВТУ, еще ряд вузов, МГУ, с другими, которые будут взаимозачитывать эти баллы. Не нужно говорить, что там будут разные оценки, это можно сделать...
Константин Тхостов: Так это электронное портфолио, о чем говорит Арслан.
Александр Карпов: Это не портфолио – это нормальные устные экзамены в первую очередь, когда с ребенком говорят.
Вот я сдавал когда, я сдавал в два вуза экзамены, я МГУ закончил и МВТУ. Вы знаете, вот этот устный экзамен, когда со мной разговаривали и я понимал, что я могу по всему курсу ответить на вопрос... Там же не по билету устный экзамен идет, билет – это повод для разговора... Там две задачки и все. А когда с вами разговаривают по всему курсу и чувствуется, что ты нормально ориентируешься, ты не зазубриваешь... С меня не требовали формул, а мы говорили и там, и там.
Константин Тхостов: Если вас не хотят завалить и вы вошли в ректорский список.
Александр Карпов: Нет. Так это 5%, ради бога.
Арслан Хасавов: Павел Николаевич, как раз на творческие специальности, например, на факультете журналистики МГУ...
Константин Тхостов: ...разговаривают.
Арслан Хасавов: ...в Институте медиа Высшей школы экономики, для тех, кто готовится стать журналистом, как раз после ЕГЭ есть и творческое испытание от вуза, законодательство предусматривает эту возможность.
Павел Гусев: Кстати говоря, да, на журфаке это есть.
Александр Карпов: А зачем тогда ЕГЭ?
Арслан Хасавов: Это как базовое отсечение.
Александр Карпов: Какую роль играет ЕГЭ, если вы выбираете журналиста по способности его писать? Вы что говорите-то?!
Арслан Хасавов: Общая грамотность.
Александр Карпов: Общая грамотность? Давайте я вам по общей грамотности приведу пример, можно?
Павел Гусев: Да.
Александр Карпов: Вот смотрите, мы говорим о том, что ЕГЭ составляет общую грамотность и т. д. Вот конкретный из советского времени пример: государственная проверка общеобразовательной подготовки 27 тысяч первокурсников, которая проводилась в 1987 году, показала, что всего через 2 месяца после вступительных экзаменов с аналогичными контрольными заданиями не справились 25% учащихся I курса и 45% учащихся школ. Ничего не интегрировано, ничего не оставляется. Знания – они живые, они должны жить. Поэтому, когда вы создаете вот это ЕГЭ, это все впустую, все это уходит.
Павел Гусев: Так, директор, пожалуйста.
Константин Тхостов: Велико и могуче наше общество, понимаете. Мы всегда найдем и сильные, и слабые стороны, мы приведем любые примеры, для того чтобы аргументировать свою точку зрения. Замечательно, в споре рождается истина. Но давайте напомним то, с чего мы начали. Ровно через две недели начинается государственная итоговая аттестация у детей. Это стресс, это напряжение нервной системы у родителей.
Есть очень важный момент, который я бы очень хотел, чтобы мы все поняли. Во-первых, это на сегодняшний день федеральный закон, раз, и он будет работать до тех пор, пока не будет изменен. И второй момент: если должны быть какие-то изменения, они должны быть последовательны и заблаговременно обсужденные в обществе.
Александр Карпов: Об этом никто не говорит, по крайней мере сейчас.
Константин Тхостов: Не как обухом по голове, а определенный срок, апробация, вывод о сильных сторонах, слабых сторонах. А самое главное, информированность населения о том, что происходит с его главной ценностью – с детьми. Ребенок в стране Российская Федерация – главная ценность, а значит, он должен быть защищен.
Павел Гусев: Совершенно верно, вот это очень важно.
Арслан Хасавов: Еще хотел сказать, что здесь речь не идет о том, чтобы не давать обратную связь государству по тем или иным задачам, которые стоят перед школой. Вот давайте вспомним об общественных институтах, например, о Совете по правам человека при президенте. Вот, Павел Николаевич, действительно огромную роль сегодня и председатель совета, и его члены играют в том, чтобы корректировать систему образования.
Павел Гусев: Совершенно верно.
Арслан Хасавов: Вспомним хотя бы о предложениях, связанных с оценкой за поведение, некоторыми другими [аспектами]. Эти дискуссии как раз на разных уровнях проходят с общественностью с педагогической, с научной и далее попадают на стол президенту, который дает определенные поручения. То есть здесь общественность вовлечена в то, чтобы скорректировать систему. Нет здесь людей, которые безоговорочно исполняют какую-то там волю, – всегда государство хочет получить обратную связь, улучшить процессы на благо общества.
Александр Карпов: Верно. Рособрнадзор говорит, вот недавно было: «Дайте нам предложения», – а у них что, своего мышления, простите меня, нет?
Константин Тхостов: У них другая функция, надзорная.
Александр Карпов: Нет, простите меня, у них функция одна – мышление, чтобы в государстве было лучше.
Павел Гусев: Коллеги, подводя итоги нашей беседы, я хотел бы сказать следующее. Я думаю, что при всей своей неоднозначности Единый государственный экзамен – это всего лишь форма. Куда важнее содержание, а именно получение знаний – это основная цель, которую должно ставить перед собой любое образовательное учреждение, будь то детский сад, школа или вуз, ведь дети приходят туда именно за этим. И от того, как мы, взрослые, будем относиться к процессу передачи знаний, то, как мы заинтересуем им детей, сколько вложим в них труда, зависит вся их последующая жизнь и будущее нашей страны.
Я благодарю моих гостей, которые участвовали в нашей передаче. В студии был главный редактор «МК» Павел Гусев. До встречи через неделю.