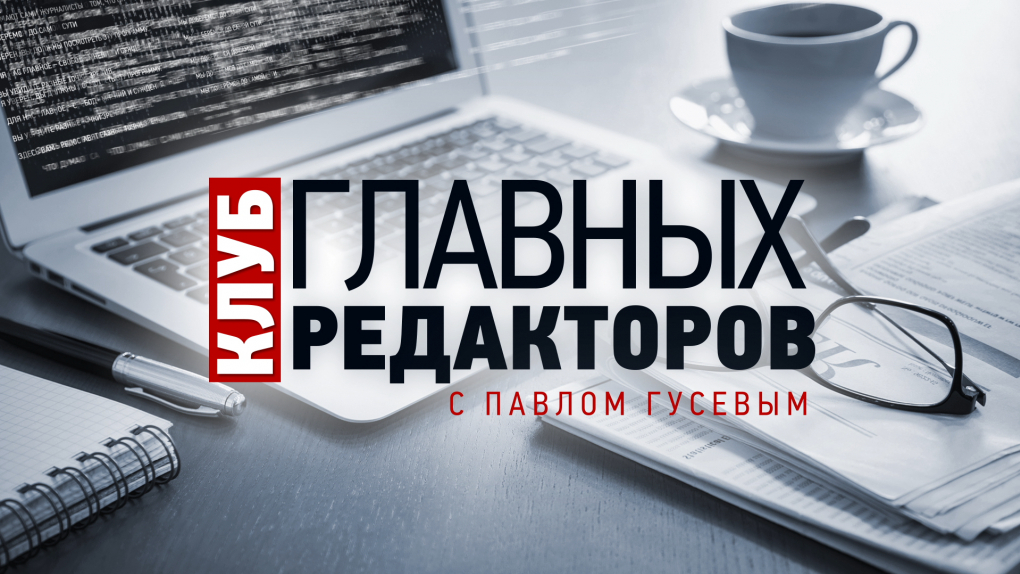Идем на взлет
https://otr-online.ru/programmy/klub-glavnyh-redaktorov/idem-na-vzlet-87218.html 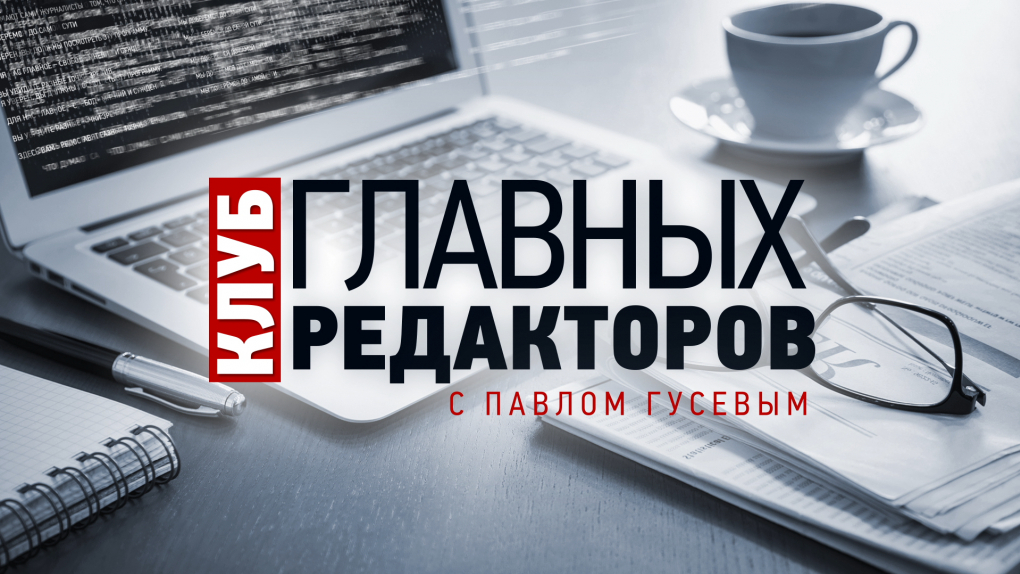
Павел Гусев: Здравствуйте! Я Павел Гусев, и это «Клуб главных редакторов».
Может ли билет на самолет стоить дешевле, чем на поезд? Насколько безопасно сегодня летать и кто эту безопасность нам гарантирует? Вернутся ли к нам зарубежные авиакомпании, Boeing с Airbus, и будут ли они нам еще нужны? Российские СМИ сегодня обсуждают не только горячие новости, но и вопросы, связанные с авиапромом, – вот и мы все это обсудим.
У меня в студии:
Роман Гусаров, главный редактор портала AVIA.RU;
Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» и главный редактор интернет-портала «АвиаПорт»;
и Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук.
Давайте сперва про цены, а потом перейдем к авиастроению, авиапарку и будущему нашего авиапрома. Итак, стоимость авиаперелетов растет – почему? Авиакомпании к сентябрю должны предоставить обоснование их тарифной политики. Поможет ли такая мера для регулирования цен на авиабилеты? Давайте поговорим.
Олег Пантелеев: Начнем с того, что мы наблюдаем динамику цен на авиабилеты с 2000 года, когда, собственно, начался довольно-таки интенсивный рост авиаперевозок в России. До конца прошлого столетия перевозки сокращались, после стали довольно-таки активно расти.
Павел Гусев: А почему сокращались, вот непонятно? Почему?
Олег Пантелеев: Развал Советского Союза привел к дезинтеграции, к снижению уровня доходов населения, реально располагаемого уровня доходов, и хотя, казалось бы, у нас была очень мощная гражданская авиация, были аэропорты, были самолеты, но доходы населения были недостаточны, чтобы позволить себе авиаперелеты.
Так вот вернусь к тому, что за период с начала столетия и по 2020-е гг. соотношение величины среднего дохода гражданина России и стоимости авиабилета поменялось примерно в 4 раза: в 4 раза билеты стали доступнее. Не дешевле, цена росла все время, но опережающим темпом росли доходы граждан.
Мы видим, что и сейчас, несмотря на то что билеты очень серьезно подросли в 2023–2024-х гг., и этот рост продолжается, к сожалению, и в 2025-м, но в 2024 году, например, по нему уже есть собранная статистика, все-таки уровень доходов населения в среднем рос несколько быстрее, чем цена на авиабилеты.
Поэтому вот этот шок, который мы наблюдаем, «А сколько же стоит билет?», а потом лезем в карман и понимаем: «Ну нет, на этот раз все-таки хватит, поэтому полечу». И то обстоятельство, что авиаперевозки, количество перевезенных пассажиров в 2024 году лишь увеличивалось, несмотря на рост цен, показывает, что да, дорого, но становится доступнее, поэтому летаем.
Павел Гусев: Скажите, вот у меня сразу возник вопрос: а кто, кто устанавливает стоимость того или иного билета на тот или иной полет? Авиакомпания, или кто-то решает из государственных структур, или какие-то аэропорты... ? Я не знаю кто. Кто устанавливает цену билета на самолет, вот кто?
Олег Пантелеев: Есть два подхода. Во-первых, в Воздушном кодексе указано, что установить тариф, величину тарифа – это прерогатива авиакомпаний. Но второй подход заключается в том, что государство реализует программы субсидирования перевозок, т. е. нас с вами как пассажиров государство поддерживает рублем и объявляет очень простые условия: предельная цена, стоимость авиабилета не выше определенного уровня; я [государство] часть стоимости компенсирую, и вы уж, авиакомпании, будьте добры, выставьте пассажиру цену не выше, чем вот такая величина.
Павел Гусев: А как определить экономическую всю эту обусловленность той или иной цены?
Роман Гусаров: С вашего позволения.
На самом деле, конечно же, поскольку мы встали на рыночные рельсы, то, как нам говорили в 1990-е, все определит рынок, спрос и предложение, т. е. если люди готовы покупать по этой цене, то, значит, вы и продаете, предлагаете такую цену.
Конечно же, это вызывает очень такую высокую динамику цен на авиабилеты в течение всего года, т. е. зимой, вот сейчас, например, в феврале, в марте, мы видим минимальные цены, если посмотрим на весь, как говорится, срез года, а в июле-августе это будут пики, где цены могут вырасти в 2, а то и в 3 раза на отдельных направлениях.
Понятное дело, что здесь опять-таки авиакомпании ориентируются на спрос, но в то же время они ведь прекрасно понимают, что есть еще и себестоимость, которая продолжает расти, и на растет очень высокими темпами. Мало того, что у нас в стране достаточно высокий уровень инфляции и все дорожает, у нас каждый год индексируются аэропортовые сборы, у нас дорожает керосин, у нас растут, понятное дело, зарплаты, не говоря уже...
Павел Гусев: Я очень извиняюсь, что перебиваю, – а эти сборы кто устанавливает, государство?
Роман Гусаров: Аэропортовые сборы во многом регулирует государство, есть регулируемые сборы, которые регулирует государство, Федеральная антимонопольная служба. Но есть еще множество дополнительных услуг, которые аэропорт предоставляет авиакомпаниям, а эти тарифы не регулируются. Там может быть порядка 30 и более разного вида услуг. И к сожалению, во многих местах, локациях у нас аэропорты-монополисты и монопольно назначают свои цены. Это тоже давит на себестоимость.
Ну и, конечно же, то, с чем мы столкнулись, – с санкциями. Это и запчасти, они подорожали на 30–50%, это и ремонт, и само собой все эти расходы авиакомпании вынуждены перекладывать в себестоимость. А уже разбрасывая цены, определяя свою ценовую политику в течение всего года, они понимают, что, допустим, зимой, да, летают по себестоимости или даже себе в убыток зачастую авиакомпании, потому что просто мы зимой никуда не путешествуем, мы любим летать летом в отпуск. А летом, соответственно, авиакомпаниям нужно окупить все вот эти вот убытки, заложить будущие расходы, для того чтобы хватило опять-таки пережить следующую зиму, низкий сезон, подготовить самолеты, персонал, отремонтировать все к следующей летней навигации.
Павел Гусев: Вот вы говорите, аэропорт устанавливает тарифы, цены и что-то еще. Скажите, а разве Шереметьево – это не государственная структура?
Роман Гусаров: Ну, наверное, нет, не государственная структура. Все-таки Шереметьево работает на основе концессионного соглашения, государство передало в управление частной компании управлять этим аэропортом. Соответственно, компания инвестирует в развитие аэропорта, управляет аэропортовой деятельностью, а государство платит, помимо всех налогов, концессионный сбор.
И в принципе это наиболее рабочая схема, которая позволяет развивать аэропорты, не вытаскивая деньги из бюджета. Все-таки на реконструкцию аэропортов нужны огромные [суммы], если брать в долларах, миллиарды долларов на каждый крупный аэропорт. Чтобы не делать это за счет бюджета, конечно же, сейчас основное направление – это передача аэропортов, и практически уже во многих местах так и реализовано: у нас есть крупные управляющие компании, которые управляют целыми холдингами, холдинги такие аэропортовые, и, соответственно, они управляют, они извлекают прибыль, ну и платят, как говорится, государство получает тоже свои дивиденды.
Владимир Попов: Безусловно, что надо, конечно, все равно соблюдать разумные пределы, вот в чем дело.
Так или иначе рынок, конечно, регулирует экономику в целом, но если смотреть вот на Дальний Восток, почему туда обращает внимания больше наше государство, правительство? Потому что там люди субсидируются, и вот эти полеты не просто раз в год даже, а по необходимости и два раза в год, и больше может быть там, и для детей, и для взрослых, и для каких-то объединений промышленных... Эта вот доступность должна быть, и она осуществляется. И вот это, наверное, правильный подход.
И где-то есть, безусловно, наверное, минусы в том, что каждый хочет свои расходы компенсировать полностью.
Павел Гусев: А, вот так.
Владимир Попов: Такого не бывает вообще-то. Но, понимаете, вот эта вот тенденция, у нас она на сегодняшний день, наверное, превалирует, хотим мы или нет, и это вот отрицательно влияет на экономику развития именно гражданского флота в целом и перевозок даже. Хотя да, в карман не смотрит никто, конечно, той компании, которая нас обслуживает: надо будет, я и другой человек полетит за любые деньги.
Павел Гусев: Ну это да.
Владимир Попов: Но вот разумность должна быть все-таки у нас на государственном уровне.
Павел Гусев: Должна всегда присутствовать.
Скажите, а вот может ли развиваться или идти вперед вот это вот бюджетное финансирование, лоукостеры так называемые и все остальное, с ними связанное? Это будущее, или это уже до свидания?
Владимир Попов: Все-таки давайте я продолжу свою идею: все-таки это будущее.
Смотрите, почему будущее? Потому что есть процессы, когда государственное и частное партнерство – это сегодня локомотив развития всей экономики мира, хотим мы или нет, и пример такой, пожалуйста, Китай. Хотим мы или нет, у него что? У него и государственные есть, и частные есть компании, и работа их, их взаимодействие, именно подчеркиваю еще раз, основаны на разумных пределах: дают жить и частникам, и государство не в убытке.
Павел Гусев: То есть не получается, что вот мы стремимся удешевить, при этом, так сказать, будем чуть ли не стоя, как в трамвае, от Москвы до Санкт-Петербурга лететь?
Владимир Попов: От Москвы до Санкт-Петербурга еще ладно, там 45 минут, я долечу и стоя...
Павел Гусев: До Красноярска.
Владимир Попов: А вот на Дальний Восток, в Сибирь когда летаем, это, конечно, надо будет более все-таки качественно предоставлять эти услуги. Но об этом и говорят, что не каждая услуга, в общем-то, доступна будет тому или иному лицу, физическому лицу, кто летает, и той или иной компании.
Почему вот у нас вот эти вот компании более такие востребованные, где минимальная цена полета? Они ограничены тоже, или они являются дочерними компаниями больших, основных компаний, которые руководят: «Аэрофлот», пожалуйста, это пример же.
Павел Гусев: Что-то хотели добавить?
Роман Гусаров: Если позволите, конечно.
Если говорить о развитии лоукост-сегмента, то, конечно, скорее всего, за ним будущее, это показывает и европейский рынок, и общемировой. Единственное, что надо понимать, что этот сегмент тоже ограничен некими условиями, т. е. лоукост-перевозки, низкобюджетные, т. е. это снижение себестоимости в первую очередь, это не только низкие тарифы, можно обеспечить на территории, где достаточно небольшие, относительно небольшие для авиации расстояния и высокая плотность населения. То есть задача лоукоста, билет дешевый, когда самолет заполнен полностью.
Павел Гусев: Полностью.
Роман Гусаров: Да. А у нас этому условию отвечает европейская часть России, а за Уралом, как говорится, не докричишься...
Павел Гусев: Там совсем другая ситуация.
Роман Гусаров: Да. И несомненно, у нас есть и лоукост-авиакомпании, и многие, кстати, классические авиакомпании, по большому счету, тоже сейчас исповедуют такую гибридную модель, они тоже начинают дробить свои услуги, у них можно купить и без багажа, и без питания, т. е. со многими... Можешь купить голый билет почти по цене лоукоста, по большому счету, и это делают сейчас большинство наших крупных авиакомпаний. Поэтому да, этот сегмент будет развиваться.
Ну а что касается еще господдержки и субсидирования, хочется одну реплику добавить. Вот интересное у нас направление есть субсидируемое Москва – Владивосток... Ну, как субсидируемое? Например, «Аэрофлот» от имени своего главного акционера, государства, выполняет полеты по плоским тарифам. Плоский тариф, если не ошибаюсь, на сегодняшний день во Владивосток из Москвы и обратно составляет примерно 27 тысяч рублей. Если посмотреть на расстояние, которое мы летим туда и потом обратно, ну это чуть-чуть меньше, чем полет из Москвы в Нью-Йорк. Можно ли слетать в Нью-Йорк из Москвы за 13,5 тысяч? Я думаю, это фантастика какая-то.
Павел Гусев: А что такое плоский тариф? А то мы с вами говорим терминами какими-то.
Роман Гусаров: Плоский тариф – это как раз тариф, который не меняется, не подвержен вот этому динамическому ценообразованию: он всегда фиксированный.
Павел Гусев: А, т. е. всегда фиксированный – это и есть плоский тариф?
Роман Гусаров: Фиксированная цена.
Павел Гусев: Понятно.
Несколько лет назад в России был запущен национальный проект по реконструкции аэропортов, еще и имена всем раздали. Современный аэропорт – это ведь не только комфорт для пассажиров, это и возможность, например, из одного региона перелететь в другой, не делая крюк через Москву или Питер.
Я прошу присоединиться к нам генерального директора Международного аэропорта им. Н. И. Камова города Томска Антона Перфильева. Здравствуйте, Антон Владимирович.
Из вашего аэропорта теперь можно вылететь в Красноярск или в Екатеринбург, не залетая в Москву. Почему раньше это не было возможно?
Антон Перфильев: Добрый день, уважаемые коллеги.
Не только в Красноярск и Екатеринбург, но и по 17 другим направлениям, и здесь, конечно, нужно учитывать большую роль государства, потому что на протяжении некоторого времени оно занимается системно повышением авиационной подвижности населения. Раньше модель была, я бы ее назвал «столицецентричной», сейчас же активно развиваются прямые региональные маршруты.
При этом важно поддерживать авиакомпанию, для этого есть много инструментов, два из основных из которых – это постановление правительства, федеральный инструмент 1242, и такие локальные региональные инструменты поддержки. Например, по постановлению правительства, федеральному постановлению, такой студенческий и труднодоступный Томск в 2024 году имел девять прямых региональных направлений. Это позволило иметь прямые связи и с Красноярском, и с Екатеринбургом, и с Новосибирском, и с Казанью, и еще со многими другими направлениями.
Павел Гусев: Аэропорт может быть частным или принадлежать, так скажем, акционерной компании с участием государства? Или обязательно все государственные должны быть?
Антон Перфильев: За редким исключением, структура владения российским аэропортом следующая: государство владеет аэродромной инфраструктурой, а всей сопутствующей инфраструктурой (терминальными комплексами, карго-терминалами, топливозаправочными комплексами и т. д.) владеет частный инвестор.
Павел Гусев: Кто должен инвестировать, они, эти компании, или государство обязательно должно вкладывать в эти все структуры?
Антон Перфильев: Вообще, аэропорт – это крайне тяжелый инфраструктурный объект, система, и здесь нужны совместные усилия и государства, и частного инвестора.
Надо еще учитывать, что создание аэропортовой инфраструктуры – это очень инертный такой процесс, и государство и оператор должны постоянно и, наверное, скоординированно между собой думать о будущем, потому что те решения, которые мы принимаем сегодня, от этого будет зависеть, какими будут аэропорты завтра, послезавтра и через 10 лет. Я думаю, что все присутствующие много летают по стране, видят, как меняется аэропортовая инфраструктура и в Москве, и в регионах. Пока, по моей оценке, это получается.
Павел Гусев: Скажите, а что такое аэропорт будущего? Вот как вы видите, как видят специалисты, чего не хватает, чтобы сказать: «Вот это мы живем сегодня в будущем, вот это лучшее место, куда пассажир приходит, улетает, прилетает, обслуживание и все остальное»? Что такое аэропорт будущего?
Антон Перфильев: Аэропорт будущего... Я бы сказал, что ключевое слово здесь «баланс». Аэропорт будущего – это то место, где учитываются интересы государства, где учитываются интересы частных инвесторов и очень комфортно и удобно пассажирам.
Павел Гусев: Мне кажется, самое главное вот это последнее должно быть, пассажирам должно быть удобно. А то зачастую наши компании, они же что думают? – как больше заработать, где, так сказать, урвать... И ничего в этом плохого нет, это бизнес. А мы, мы все, все-таки хотим, чтобы главным был кто? – пассажир. Пассажир, который приходит, который платит разные суммы, который должен и отдыхать, и быть уверенным, что его чемодан не улетит, скажем, на север или на юг, а не в то место, куда он приземлился, понимаете. Вот это все, все вместе – вот что хочет пассажир. И как этого добиться, как вы считаете?
Антон Перфильев: Я считаю, что, во-первых, пассажира нужно слышать, поэтому все и аэропортовые сети, и крупные аэропорты столичного региона задумываются очень системно о качестве. То есть, во-первых, нужно пассажира слышать, что для него является главным, что для него, наоборот, является деструктором.
И конечно, вторая часть этой медали – нужно находить возможности для реализации. Потому что ну вот построить терминал, реконструировать терминал и прочую аэропортовую инфраструктуру – это недешевое удовольствие. И конечно же, вот часто аэропорты так упрекают в том, что, значит, дорого и т. д., но если бы не было вот этих решений вчера, позавчера, 5 лет назад, то у нас аэропортовая инфраструктура была бы в упадке.
Если позволите, статистика такова, что в стоимости билета аэропортовые услуги обычно не превышают 10%.
Павел Гусев: Понятно.
И в завершение все-таки у меня такой еще вопрос: а как продумывается система, чтобы пассажир из города приехал в аэровокзал, знаете, чтобы... Вот в Москве существуют, предположим, поезда, электрички специальные, которые... Как это решается у вас в регионе и в тех местах, которыми вы занимаетесь? Как доставить удобство пассажиру, чтобы он приехал?
Антон Перфильев: Конечно, вы правы.
Вы неслучайно вспомнили про аэроэкспрессы – это, пожалуй, на сегодняшний день самый удобный вид транспорта, который позволяет без пробок доставить пассажиров в прогнозируемое время в аэропорт. Но, как и везде, этот очень емкий проект требует определенного объема людей, которые им пользуются, поэтому помимо столичных аэропортов на текущий момент этой емкости не достигается.
Это задача, которую решают региональные власти, это и система автобусная, где-то ходят троллейбусы до аэропортов, конечно же, система такси и личный транспорт.
Павел Гусев: Спасибо большое! Мы привет Томску передаем! Успехов в вашей деятельности! Спасибо вам большое!
Вы знаете, с одной стороны, очень интересно, что теперь не через Москву, не через Питер, а вот есть какие-то возможности в регионах перемещаться. Но вот что-то все-таки здесь недорабатывается, как мне кажется. Вот те же аэровокзалы, те же электрички... Что пассажиру кроме того, что сесть в самолет, нужно?
Роман Гусаров: Я просто хочу продолжить мысль о том, что аэропорт – это сложный инфраструктурный объект и, действительно, одними частными инвесторами, их усилиями успешность аэропорту не создать.
И обычно, когда сейчас у нас в стране реализуются проекты по реконструкции аэропортов или даже строительству новых, по сути, заключаются трехсторонние соглашения. В этих соглашениях участвуют государство, частный инвестор и местные региональные власти, и у каждого есть свой сегмент, своя зона ответственности.
Государство занимается реконструкцией взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, перронов, светосигнального, аэронавигационного оборудования, управления воздушным движением, т. е. аэродромной частью.
Частный бизнес, инвесторы, они строят пассажирские терминалы, гостиницы, парковки – все, что нужно для пассажира.
Павел Гусев: При этом на этом зарабатывают неплохо.
Роман Гусаров: Конечно. При этом они за это, за то, что они вкладывают, инвестируют деньги, они получают аэропорт в управление, соответственно, потом отвечают в т. ч. и перед государством.
А еще в этом участвуют региональные власти, которые должны построить дорогу, осветить ее, обеспечить, допустим, автобусное сообщение или железнодорожное сообщение, предоставить коммуникации: электроэнергия, водопровод, канализация, тепло...
Если кто-то свою часть не выполняет, или не выполнит, или задерживает, то тогда, конечно, аэропорт просто не может функционировать.
Павел Гусев: Ну да.
Роман Гусаров: Можно построить шикарный аэропорт, но если к нему нет дороги, ну а кто тогда им может воспользоваться?
Павел Гусев: Тогда это бессмысленно.
Роман Гусаров: Поэтому это и вызывает зачастую вот различные, как говорится, мелкие шероховатости. Но вот, слава богу, сейчас по тем проектам, которые мы видим, которые реализуются в больших, крупных городах, чаще всего все работают слаженно, синхронно и новый аэропорт открывается уже с полностью удобной, комфортной инфраструктурой. Во всяком случае те аэропорты, которые видел я, я скажу, они ничем не хуже европейских, как говорится, нам за них не стыдно.
Павел Гусев: Понятно.
Вот теперь я хотел к теме подойти, которая, наверное, и интересует, и волнует не только пассажиров, может, даже в меньшей степени, а волнует руководство страны, тех, кто вообще понимает, что наступают достаточно вот такие, знаете, дни, годы, когда мы должны принимать решения и они должны быстро осуществляться, – где самолеты? Что нам делать, на чем летать?
Хватает ли сегодня этих самолетов, учитывая ту агрессию, с которой на нас набросились соответствующие некоторые страны и компании, когда перестали поставлять и Boeing, и Airbus, и другие технологии, запчасти и т. д. и т. п.? Что мы предпринимаем в этом плане? Давайте поговорим на эту тему. Какие у нас перспективы? Пожалуйста, кто готов.
Владимир Попов: Изначально можно сказать то, что у нас сегодня, конечно, две трети мира вот эти 2 года последних было против нас, я имею в виду именно в инфраструктуре воздушного транспорта, потому что мы так были внедрены в Запад, если можно так выразиться, так мы пользовались услугами западных стран...
Павел Гусев: А почему?
Владимир Попов: ...что забыли, что у нас своя была когда-то промышленность авиационная. Я вот к истории-то и хочу выйти.
И еще. Исторически у нас в Советском Союзе несмотря ни на что мы или первое место занимали, или второе всегда в мире в авиационной промышленности и в гражданской авиации в частности. Были передовые разработки, технологии были передовые. Более того, ИКАО (это Международная организация гражданской авиации) львиную долю документов принимала, их адаптировала и потом распространяла по всему миру, это очень показатель большой и хороший, но притом, что мы не сразу туда полностью вступили, или мы говорили политически, что мы рядом...
Павел Гусев: Расшифруйте ИКАО.
Владимир Попов: ИКАО – это Международная организация гражданской авиации.
Павел Гусев: Вот.
Владимир Попов: Она была создана в 1944 году, полностью работала уже. Но дело в том, что мы тогда воевали, если напомнить нашим слушателям и телезрителям, понимаем, что мы туда не могли войти полностью. Да, мы участвовали какой-то толикой там, присутствовали, понимали роль этого документа и этих вот разработок, но не более того, а только в 1970-х гг., в конце уже, мы стали членами полнокровными, это тоже понятие понимаете, какое. Это нас как бы тормозило всегда. Вот, наверное, этим можно объяснить, что мы идем потом в кильватере западных стран каким-то образом по гражданской авиации.
Но, знаете, все равно вот тот опыт, который у нас был в Советском Союзе, по производству авиационной техники, был великолепный. У нас вся линейка гражданской авиации была собственная.
Павел Гусев: Это правильно. Но после 1990-х гг. мы практически полностью перешли на Airbus, Boeing...
Владимир Попов: На помощь Запада.
Павел Гусев: ...и своя авиапромышленность оказалась у нас в лежачем...
Владимир Попов: Не совсем – по отношению к гражданской авиации. Я остановлюсь на военной...
Павел Гусев: Мы про военную пока не говорим. Дело в том, что я могу сразу сказать, что сегодня по военным самолетам, по военным разработкам Россия...
Владимир Попов: ...опережает, наверное, многие-многие западные государства авиационные.
Павел Гусев: Опережает большинство стран мира. А последние разработки военных истребителей, 57-е, вообще такого нет в мире, все признают. Все признают, что мы лучшие.
Владимир Попов: Да, особенно если [по соотношению] цены и качества.
Павел Гусев: Это военная авиация. А гражданская-то где? Где гражданская, ау?
Олег Пантелеев: Давайте вернемся к вот такому вопросу. Вы задали очень правильный вопрос, что вроде бы все красиво в региональных аэропортах, но чего-то не хватает. Не хватает нас с вами, имеется в виду нас с вами как пассажиров.
То есть если мы посмотрим на тот же самый аэропорт, то в его экономике есть очень важная составляющая: примерно 50% – это зарплата, и ее нужно платить вне зависимости от того, есть пассажир или нет пассажира. Экономика аэропорта складывается тогда, когда пассажиров много и огромные издержки можно разделить на много-много-много людей, уплачивающих небольшие аэропортовые сборы.
С авиапромышленностью, с гражданской авиапромышленностью, ситуация точно такая же. Мы вынуждены вкладывать десятки, даже не десятки, а сотни миллиардов рублей в разработку авиатехники, которая соответствует очень жестким требованиям.
Павел Гусев: Современным.
Олег Пантелеев: Конечно-конечно, и перспективным требованиям тоже. И вот если мы эти сотни миллиардов рублей переложим на сто построенных самолетов, то окажется, что из золота-то их сделать было бы дешевле, чем из современных высоких технологий.
И с этим-то и столкнулся Советский Союз. Да, мы занимали практически четверть мирового рынка гражданских самолетов, в ряде случаев доходило и до порядка 28%. Но что произошло дальше? Спрос обрушился на перевозки из-за дезинтеграции, из-за развала СЭВ и других событий, и у нас оказалось, что чтобы создать следующее поколение самолетов, нужны большие деньги, а возвратить их за счет продаж самолетов не получается.
Сейчас складывалась похожая ситуация. Понятно же, у нас Boeing, Airbus, их можно купить прямо сейчас... Ну и решили: «Да ладно, не нужен нам свой собственный авиапром». Но потом спохватились и сказали: «Нет, слушайте, свой авиапром нужен». И государство приняло очень важные решения, и в начале 2000-х они были воплощены в конкретные бюджетные ассигнования: давайте меньше думать об окупаемости, мы за счет бюджета профинансируем научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские работы, сертификацию самолетов, и это поможет создать свои собственные самолеты.
Не получилось, потому что оказалось, что нужно и на следующих этапах тоже за счет государства поддерживать выход на этот рынок. То есть сейчас мы поддерживаем и организацию производства, и продажи. То есть если любая авиакомпания придет не с чемоданом наличных, а скажет «Вот мне нужны длинные деньги лет на 15–20», по тем процентным ставкам, которые сегодня предлагают коммерческие банки, самолет купить нельзя. Поэтому нужно, чтобы и здесь государство субсидировало, покрывало разницу между ставкой коммерческого банка и тем, что позволит окупить самолет.
Сегодня, надо отдать должное, правительство провело буквально колоссальный объем работ, чтобы выстроить систему поддержки авиационной промышленности начиная от научных исследований и заканчивая покрытием вот этой ставки по привлекаемым процентам кредитов. И этот механизм вот-вот должен заработать, ну а мы, соответственно, получим возможность летать на новых отечественных лайнерах.
Владимир Попов: Вы говорите правильно, что нужно всю цепочку теперь жизненного цикла авиационной промышленности и продукта авиационной промышленности, т. е. самолетов и вертолетов, осуществлять самостоятельно и под контролем, наверное, или с помощью государственных денег все равно. Иначе мы не выживем. Сейчас уже тяжело стало.
Олег Пантелеев: Чуть-чуть по-другому скажу: запустить этот механизм без государства априори невозможно. Поддерживать его государству точно нужно. Но мы не должны создавать...
Владимир Попов: Переходить грань социализма, которая у нас была раньше.
Олег Пантелеев: Мы не должны создавать одну заведомо дотационную гигантскую отрасль, в которую мы будем всю жизнь вкладывать деньги.
Владимир Попов: Да.
Олег Пантелеев: Все-таки задача – вывести авиапромышленность на рентабельность и сделать так, чтобы она не только сосала деньги, но и создавала рабочие места, а далее налоговые поступления. А когда дело доходит до экспортных поставок, это уже для бюджета благо.
Павел Гусев: Роман, вы так немножко улыбались. Что-то вас... ?
Роман Гусаров: Нет, я полностью согласен с коллегами, все верно. Единственное, что я вспомнил по поводу западного опыта. Может возникнуть вопрос, почему же нам приходится везде, на каждом этапе субсидировать, а вот Boeing, Airbus, они же продаются, их покупают, там все замечательно.
Павел Гусев: Да.
Роман Гусаров: Нет, не замечательно. Если углубиться в экономику того же Boeing, то мы увидим, что огромная часть доходов этой корпорации – это космические контракты, это военные заказы. Более того, через вот эти контракты, которые оплачивает государство через ту же военную сферу, происходит скрытое субсидирование гражданской продукции. То есть военная техника покупается по завышенным ценам в обход ВТО, и за счет этого Boeing всегда имеет ресурсы на развитие своего продукта, на инвестирование в развитие своих технологий.
Павел Гусев: Правда, гайки у них отваливаются и двери отскакивают.
Роман Гусаров: Ну ничего, и даже при всем при этом тоже...
Владимир Попов: Подушка безопасности у них за счет этого создается.
Роман Гусаров: Но получается, что и у них... Это все есть в открытых источниках, неоднократно тот же Airbus обращался в ВТО с жалобами на вот это скрытое субсидирование, Boeing в ответ на то, что субсидирует Евросоюз Airbus... То есть там тоже со стороны государства существует очень немалая поддержка, причем на самом деле в таких цифрах, которые нашей промышленности даже не снились.
Павел Гусев: Но тем не менее, вот посмотрите, сейчас там Superjet новый, значит, его совершенствуют, такой странный достаточно первый выпуск Superjet этого, я летал... Должен сказать, удовольствия не получил, потому что... Я не хочу критиковать ничего, но удовольствия не получил, честно могу сказать.
Есть разработки еще ряда самолетов, Ту-шку новую делают, так я понимаю... Тем не менее мы близки, вот мы где-то рядом. А посмотришь на военные самолеты – так до них вообще рукой не достать, потому что они уже из другого века на сегодняшний день, и многие признают это.
Почему мы технологии там не можем... ? Может быть, что-то взять из военных технологий, я не знаю, может быть, еще из чего-то? Я, может, не понимаю в этих делах до конца, но почему мы стоим на месте? Почему мы собираемся только вот в ближайший год-два выпустить, по-моему, 11 самолетов всего?
Владимир Попов: Вы, наверное, правы, что военная авиация существует и она действительно могла бы быть локомотивом развития гражданской авиации. Но просто масштабировать, вы представляете, вот это все просто увеличить в размерах, самолет там, нужны производственные мощности соответственные, раз. Второе: нужны немного другие технологии.
Павел Гусев: Согласен.
Владимир Попов: А третье: где у нас рабочие руки? Вот в чем дело. Мы же упустили это вообще и потеряли тот потенциал рабочей силы, который у нас был раньше, он устарел уже или не подходит где-то, требует переучивания на цифровые станки, которые сегодня должны работать, и роботизированные линии, понимаете, в чем дело, а это надо готовить.
И вот когда мы подготовим и производственную базу, когда у нас будут и профессионалы соответствующие, и технологи, и инженеры, и тем более вот именно рабочие соответствующие, тогда только можно говорить о масштабировании производства и тогда ожидать хороший рост развития гражданской авиации.
Павел Гусев: В начале XX века, а точнее, в 1914 году, когда первые пассажиры начали летать на самолетах, это было событием и это было, думаю, страшновато. Сейчас, в XXI веке, нас уверяют: технологии самолетостроения уже настолько совершенны, что позволяют создать воздушные лайнеры практически безопасными.
Хочу узнать подробности. На связи генеральный директор компании по аэродинамическому проектированию самолетов Сергей Пейгин. Здравствуйте.
Вы проектируете самолеты гражданской авиации и беспилотники, используя самые новейшие технологии. Понимаю, что вы, конечно же, утвердительно ответите на вопрос, могут ли эти технологии гарантировать абсолютную безопасность, но хотелось бы услышать весомые доводы и объяснения на пальцах, на понятном нам, пассажирам, языке. Пожалуйста.
Сергей Пейгин: Здравствуйте. Рад вас всех приветствовать.
Давайте на пальцах. Смотрите, когда мы строим, проектируем гражданский самолет, то на самом деле в современном мире на первом месте как раз и стоит безопасность. Именно этим и отличается гражданское авиастроение от военного авиастроения, вот отвечая на вопрос, есть ли тут связь. Дело в том, что и для военных важна безопасность, но для гражданских это совершенно вопрос № 1.
Теперь – как достигается безопасность? Безопасность достигается за счет, я бы так сказал, оптимальной формы, аэродинамической формы летательного аппарата. Самым главным элементом в таком летательном аппарате, как самолет, является крыло. Вот форма крыла и должна гарантировать безопасность полета в достаточно широком диапазоне изменения параметров полета от некоторого крейсерского режима. Вот для этого и нужны наши методы, которые мы используем для получения вот этой оптимальной формы.
Павел Гусев: Вот вы говорите про крыло, предположим, – у меня такое впечатление, что крылья как были, я смотрю, что на Ту, что на Ил, что на других, крылья, по-моему, у всех одинаковые.
Сергей Пейгин: Ну вот видите, взгляд обычного человека...
Павел Гусев: Да, я обычный.
Сергей Пейгин: ...что есть некое универсальное крыло: сделал одно крыло, поставил, и все будут летать. Но вот суть-то совершенно в другом.
Крыло абсолютно индивидуально: оно индивидуально для этого фюзеляжа, оно индивидуально для этого конкретного двигателя, пилона двигателя, закрылков, в зависимости от того, на какое расстояние он летает, на каких характерных скоростях маха летает и т. д. Нет универсального ответа на этот вопрос.
Павел Гусев: Понятно.
Сергей Пейгин: Ну вот я вам приведу пример, как Boeing поступил. Вот вы знаете эти нашумевшие истории с авариями, которые на 2 года выбили Boeing.
Павел Гусев: Да.
Сергей Пейгин: А в чем дело? У них был прекрасный самолет Boeing 737-й с теми двигателями, на которых они летали. Потом пришли экономисты и сказали: «Знаете, двигатель надо бы поменять, вот сейчас новые двигатели есть – давайте сделаем». Ну, Boeing сказал: «Давайте сделаем».
И было принято, на мой взгляд, принципиально ошибочное решение. Они сказали: «Давайте возьмем то крыло, которое было, и приставим к нему новый двигатель». Они приставили, и выяснилось, что это все динамически неустойчиво. Там есть такое понятие, момент тангажа, устойчивость полета; выяснилось, что с новыми двигателями нужно очень тонкое, я бы сказал, филигранное математическое решение управления самолетом на взлете.
Павел Гусев: А где же были все эти вот инженеры, исследователи?
Сергей Пейгин: Они все там были, все прекрасно все понимали, говорили: «Задача сложная, но мы сможем».
Павел Гусев: Вот так вот. Это общая ошибка, значит, в конечном счете?
Сергей Пейгин: Они смогли. Но смогли так, что при определенных условиях возникали проблемы, вот два или три самолета разбилось на взлете.
Павел Гусев: Да, совершенно верно.
Сергей Пейгин: На 2 года самолеты закрыли, и 2 года, еще раз повторяю, весь мир искал ошибку в их программном обеспечении.
Павел Гусев: Понятно.
Сергей Пейгин: Нашли.
Павел Гусев: Скажите, пожалуйста, а вот беспилотные пассажирские самолеты – это фантастика, или это далекое будущее, или совсем близкое будущее?
Сергей Пейгин: Я буду реалистом: и на мою жизнь, и на жизнь половины следующего поколения беспилотных серьезных летательных аппаратов большого масштаба, думаю, пока не будет. Причина именно в безопасности. Психологически человек... Ну вот даже с внедрением беспилотного такси, все вот вроде завтра, завтра, завтра, а прошло уже 15 лет с момента, когда об этом заговорили, и пока результаты сложные.
Павел Гусев: Понятно. Спасибо большое за разъяснения и за вашу информацию! Это очень интересно, важно. Спасибо большое!
Что вы скажете? Знаете, у меня какое-то есть чувство все-таки... Хочется верить, и в то же время все время думаю: а получится это, это... Корпорация Boeing не смогла рассчитать крыло с двигателем, 2 года падали самолеты, чего там только не было.
Владимир Попов: Это нужно сразу заметить нехорошим словом, хотя само слово хорошее...
Павел Гусев: У нас получится? Мы можем быть уверены?
Владимир Попов: Знаете, в чем дело там – командует кто? Вот последние 20 лет это были эффективные менеджеры, это финансисты, как я говорю, бухгалтеры и счетоводы. А от них ждать эффекта аэродинамики...
Павел Гусев: Разработок.
Владимир Попов: ...и техники, технологий нельзя.
Павел Гусев: Нельзя.
Владимир Попов: Здесь цена и качество должны быть нивелированы. И вот тут-то нужно, конечно, чтобы в отрасль приходили люди, и даже в компании чтобы приходили люди с летным образованием, инженеры авиационные, может, технологи даже, управленцы авиационные, кто с УВД (организация управления воздушным движением), – вот этих нужно людей воспитывать и туда поднимать.
Павел Гусев: А вот говорят, что все-таки хотят... Ну, беспилотные – понятно, это...
Владимир Попов: Я думаю тоже, я с вами согласен, 50 или 100 лет вперед пока мы будем забывать об этом.
Павел Гусев: Да, это еще непонятно.
Владимир Попов: Но работать надо.
Павел Гусев: Но говорят, что хотят вместо двух пилотов одного – это возможно или нет?
Владимир Попов: Да все возможно в автоматике.
Павел Гусев: На Западе такие разговоры, это не про Россию пока.
Владимир Попов: Психология и психофизиологические качества людей нужно купировать как-то. Ведь, понимаете, у нас есть пример, не так давно было, это в пределах еще 10 лет: дочерняя компания Lufthansa, возвращались из Италии к себе в Германию, и пилот второй, закрывшись в кабине...
Павел Гусев: Да-да, было такое, авиакатастрофа.
Владимир Попов: Да, ввел в горы Альпы и все, и погибли люди ни за что, по его прихоти.
Павел Гусев: Ни за что, там это страшная была катастрофа.
Владимир Попов: Хотя психологически понимали мы его и знали, что это был психически неуравновешенный человек.
Павел Гусев: Нездоровый человек, да.
Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас говорим с вами о беспилотных, говорим с вами об одном пилоте, мы говорим о том, что вообще может произойти. Но давайте мы все-таки с вами подумаем, вот в ближайшие 10 лет появятся у нас новые самолеты, наши российские пассажирские самолеты, или мы будем все переделывать то один двигатель, то другой на разных самолетах?
Олег Пантелеев: Давайте я поставлю точку в этом вопросе.
Павел Гусев: Да, пожалуйста.
Олег Пантелеев: Мы считаем, что новые отечественные самолеты, вот они еще в будущем. Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны: Superjet впервые начал возить пассажиров в 2011 году, и в свое время, в прошлом десятилетии, он был на втором месте среди всех 100-местных машин в мире по количеству поставляемых на рынок самолетов.
Далее МС-21. Да, мы его еще ждем, когда он начнет возить пассажиров, но самолет с импортным двигателем в том варианте, в котором он был задуман в 2008 году, он был сертифицирован. Если бы мы имели возможность получать эти импортные комплектующие...
Павел Гусев: ...то все пошло бы.
Олег Пантелеев: ...мы бы уже летали на этом самолете.
Поэтому, к сожалению, мы сталкиваются с тем, что есть внешние факторы, не зависящие от конструкторов, которые не позволяют нам уже сделанное эффективно использовать. Ничего, справимся.
Павел Гусев: Я уверен тоже, я уверен в этом.
Вы знаете, я по своей первой профессии геолог, и в далеких 1970–1980-х, когда я в геологии трудился, я очень много имел поездок по нашей великой стране, Советскому Союзу. Я вам должен сказать, что да, я долетал до Иркутска куда-нибудь или еще куда-то, а дальше? Дальше я шел, рядом был маленький аэропортик, шел и садился в Ан-2. Он крутился, шумел, уши закладывало, нас там было человек 15, я не знаю, 12 человек, неважно, где-то в районе 10 человек, а иногда и 5, 3, неважно, и он летел. Летел он куда? Он летел на маленькие, знаете, земляные, просто, так сказать, насыпанные, утрамбованные маленькие аэропортики...
Владимир Попов: Полянки.
Павел Гусев: Да, полянки. Садился, мы выходили, он опять вжух! – и улетал, на следующей полянке садился.
Почему мы уничтожили малую авиацию? Почему на сегодняшний день почти мы не найдем вот этих вот земляных маленьких мест, куда могут самолетики в будущем, предположим, [приземляться]? Куда мы дели этот Ан-2? Почему его нельзя выпускать снова? Он же полностью российский, советский.
Вот давайте про малую авиацию немножко поговорим, потому что это, кстати говоря, самая человеческая авиация, самая человеческая. Пожалуйста.
Роман Гусаров: Давайте я начну.
На самом деле, да, советский «Аэрофлот» – это даже не Ту-154 легендарный, а на самом деле бо́льшая часть флота – это были региональные самолеты для региональных и местных воздушных линий, как мы сейчас их классифицируем, в т. ч. и Ан-2 или Ан-24, уникальные самолеты, которые, как говорится, «плюхаются» на любую полянку, неприхотливы, в любой мороз, на улице хранятся, запускаются, все замечательно, трактор такой, деревенский воздушный трактор, который прекрасно ремонтируется и дешевый.
Павел Гусев: Совершенно верно.
Роман Гусаров: Но та гигантская, огромная сеть советская, как ее в «Мимино», вертолеты летали в горы, она, по большому счету, субсидировалась за счет бюджета, поскольку была плановая экономика, был один общий карман, и да, экономику как бы считали, но она не была на первом месте, мы были не в рынке.
В тот момент, когда мы перестроились и перешли на рыночные рельсы, нам сказали: «Рынок все порешает». И что оказалось? А оказалось, что все эти перевозки убыточны, что если считать себестоимость, то эти перевозки недоступны населению по деньгам.
Соответственно, весь этот сегмент начал постепенно схлопываться, уходить, уходить, уходить. Мало того, еще и не было поступления новых воздушных судов: все те же старички Ан-2 1948 года разработки, те же Ан-24...
И на каком-то этапе, на самом деле даже не вчера, а уже давно, наверное, уже полтора десятилетия, как государство, как раз о чем мы не сказали ранее, пришло и в этот сегмент и стало субсидировать и дотировать, аэропортовую инфраструктуру поддерживать... Были созданы федеральные казенные предприятия, «Аэропорты Севера», «Аэропорты Красноярья», субсидировать авиаперевозки.
И почему пришло осознание, что это необходимо делать? Потому что ну вот возьмем, всегда люблю приводить этот пример, Якутию.
Павел Гусев: Да.
Роман Гусаров: Территория размером с Индию, но в Индии 1,5 миллиарда человек живет, а в Якутии меньше 1 миллиона разбросано на вот эту огромную, гигантскую территорию. И более того, нет ни дорог, ничего, там бо́льшую часть года вообще нельзя доехать до этих поселков, т. е. только авиация. То есть в каждом более-менее мало-мальски приличном поселке должен быть аэродром, пусть грунтовый, пусть ледовый, пусть на реке, но он должен быть.
И вот там до сих пор приходится летать на вот таких же Ан-2, старичках, Ан-24, поддерживать за счет государства всю эту инфраструктуру, потому что это социальное обязательство государства.
Павел Гусев: Вот это вы очень хорошо сейчас сказали, «социальное обязательство», правильно.
Роман Гусаров: Государство поняло, что если не обеспечивать жизнедеятельность людей на этих территориях, то это просто превратится в пустыню. И сегодня мы стараемся, исправляемся, стараемся насколько возможно справляться с этой задачей, и более-менее аэродромные вопросы решаются, каждый год несколько аэродромов в той же Якутии реконструируются, перелеты субсидируются и за счет федерального бюджета, и региональных бюджетов.
Чего нам сейчас не хватает, это, конечно, техники, самолетов, потому что мы упустили 20 лет, мы этим не занимались, а цикл создания нового самолета порядка 10 лет, а цикл создания двигателя на него...
Павел Гусев: А нельзя повторить просто Ан-2, начать снова его делать?
Роман Гусаров: К сожалению, нельзя, потому что, как я уже сказал...
Павел Гусев: Нет, а почему? Остались чертежи, металла у нас много.
Владимир Попов: В Китае выпускают его до сих пор, он стоит на вооружении даже.
Павел Гусев: Да, в Китае выпускают – почему мы не можем выпустить Ан-2?
Владимир Попов: У нас даже выпущенные можно отремонтировать сейчас, модернизировать и пустить в ход. Время нужно, и нужно было политическое решение, согласитесь.
Роман Гусаров: Только у нас двигателя нет для Ан-2.
Олег Пантелеев: Смотрите, здесь есть много вопросов, и с двигателем это связано, и не только с двигателем. Но есть еще и время и пожелания нас с вами как пассажиров.
Вот простой вопрос: если пассажир сидит на откидном сиденье вдоль борта, то при грубой посадке вероятность получить травму очень высокая. Соответственно, желательно, чтобы пассажир сидел на кресле, которое по полету или против полета, чтобы он был привязан и т. д. и чтобы кресло было испытано, чтобы оно перегрузку в 9G выдержало. И если мы эти требования наложим на самолет Ан-2, окажется, что нет, небезопасен с позиции современного человека и нужен новый самолет.
И я бы еще хотел продолжить рассказ Романа. Роман привел историю, ситуацию в Якутии – там действительно только самолетом можно долететь. А вот массовость Ан-2 погубили другие факторы.
Павел Гусев: Какие?
Олег Пантелеев: Горьковская область – замечательный регион, многим знакомый, там было девять посадочных площадок, на которых жужжали Ан-2: они и пассажиров возили, и химические работы выполняли. Что произошло потом? Построили автодороги, автобусы заменили Ан-2, и это стало гораздо выгоднее и удобнее для пассажиров. А потом пассажиры уже и собственные автомобили купили.
Павел Гусев: Вот это, кстати говоря, я об этом никогда не задумывался, что вот в регионах в европейской части, где действительно дороги активно строят и развивают автобусы, действительно они могут опережать... Но тем не менее, вот посмотрите, у американцев дорог, наверное, побольше даже, чем у нас, давайте честно говорить, но у них малая авиация не просто развивается... Я сейчас точно цифру вам не назову, но у них летают там чуть ли не, знаете, как мухи...
Владимир Попов: На порядок больше, чем у нас или даже в Европе, это раз.
Павел Гусев: Да, как москиты у них. Вот у них полно малой авиации.
Владимир Попов: Авиация общего назначения называется у нас это по кодификации, по кодексу и по международным требованиям.
Олег Пантелеев: Да.
Роман Гусаров: Надо здесь пояснить, что авиация общего назначения – это частная авиация, это не коммерческая авиация, т. е. это те самолеты, которые не имеют права перевозить пассажиров за деньги, т. е. это ваш личный автомобиль, так же и личный самолет. Их действительно очень много в Америке, но к перевозке пассажиров они не относятся, но их очень много.
Владимир Попов: Тут надо дифференцировать это и правильно смотреть.
А вот то, что возможность у нас есть развивать эту авиацию... Мы сегодня и говорили, что Ан-2, конечно, можно модифицировать, что-то сделать, у нас есть такие, CибНИА, да, Чаплыгина...
Олег Пантелеев: Да.
Владимир Попов: ...показал несколько вариантов, и даже летали, и сертифицированы, ТВС-2, допустим.
Роман Гусаров: Но двигатель опять-таки американский, к сожалению.
Владимир Попов: Понятно. Но сегодня у нас уже есть наработки...
Роман Гусаров: Стараемся.
Владимир Попов: Вот все упирается: как только мы сделаем двигатель, этот Ан-2 будет летать.
Павел Гусев: Ну вот скажите, ведь мы часто видим, и я знаю, сам на себе испытал, во многих местах есть вертолетное сообщение – почему мы не развиваем, предположим, на малых дистанциях?
Роман Гусаров: Можно скажу одним словом?
Павел Гусев: Да, пожалуйста.
Роман Гусаров: Дорого.
Владимир Попов: Да, вертолеты намного дороже, чем самолет.
Роман Гусаров: Вертолетные перевозки очень-очень дороги.
Владимир Попов: Он сложнее по производству, ведь не только у него винт и двигатель, там еще редуктор и трансмиссия, а это и качественно надо новое делать вообще-то, потому что не все упирается в то, что когда-то наработал еще Миль или до него сделали, да... Вот это другой подход.
Павел Гусев: А частников нельзя пустить на вертолетное? Сейчас очень много... Или самолетное, или вертолетное?
Олег Пантелеев: Присутствуют.
Владимир Попов: Есть что-то, которые... Инициативы.
Павел Гусев: На Камчатке, я знаю, есть.
Олег Пантелеев: На Камчатке была частная авиакомпания, которая занималась регулярными пассажирскими перевозками. После двух тяжелых авиапроисшествий авиакомпания прекратила существование.
Владимир Попов: Ее пока приостановили.
Павел Гусев: Да-да, было там, вы сейчас это правильно сказали.
Но вот смотрите, тем не менее наш президент буквально, если не ошибаюсь, в прошлом году уже выступал по поводу развития малой авиации. Политическое ведь решение есть, политическое решение есть – где стопорит? Вот для меня, например, непонятно было: было несколько авиаконструкторских вот этих структур гигантских...
Владимир Попов: Бюро, да.
Павел Гусев: Вдруг, значит, стали их объединять, ломать... Конкуренция даже социалистическая, чтобы, знаете, одно бюро стремилось... А все вместе они сидят, как говорится, друг на друга смотрят и ничего не делают.
Владимир Попов: Ну, может быть, не совсем так... Вообще-то там они под одной крышей сегодня...
Павел Гусев: Да.
Владимир Попов: Скорее всего, идея была хорошая, знаете, что сделать? Сделать бухгалтерию общую, сделать финансовую службу общую, сделать программное обеспечение какое-то общее, а все остальное оставить бы так, на местах.
Но у нас, как всегда, чуть-чуть побежали впереди паровоза, как этот дым, и вот тогда-то и получился слом. Да, «МиГ» где теперь у нас? Где Яковлева фирма, будем говорить? А МС-21, вот это обезличенное что-то, существо, которое никто в мире не будет знать, что оно российское, – это же, по сути, Як-242, пусть назовут его, или 141. Понимаете, в чем дело, это брендовое название.
Вот я на себя примеряю это, говорю: когда я бывал в командировках заграничных, вот в Америке, в Канаде, когда я говорю, на чем я летал, перечисляю Яковлева, Сухого, Микояна, Ильюшина, мне ставят всегда палец вверх, понимаете.
Павел Гусев: Вот так.
Владимир Попов: Да, это американцы, это англичане, это опытные, хорошие строители и летчики тем более, всегда оценивают высоко. А мы теперь как-то вот последние 25 лет начали, Superjet 100 что-то называть... А почему не Сухой? Или вот как с МС я сказал. И так вот везде у нас. Вот это, наверное, вот этот червяк, который из западной культуры пришел...
Павел Гусев: Мы не ценим наши бренды... Опять я английское слово применил, «бренд»... Не ценим то, что можно назвать русским, настоящим, интересным [именем].
Владимир Попов: Это работает на идеологию России.
Павел Гусев: Вот.
Роман Гусаров: Чтобы, как говорится, не получилось, что мы так критикуем, а на самом деле жизнь-то ушла немножко вперед, и, слава богу, не так давно разработчику самолета МС-21 было возвращено имя Яковлева.
Павел Гусев: Яковлева.
Роман Гусаров: Да, и теперь это Яковлев. Я надеюсь, что к моменту выхода самолета в серию, уже на коммерческие линии, возможно, произойдет и ребрендинг и он получит какое-то имя собственное.
Владимир Попов: Так правильно, мы с вами сколько лет уже говорим, 5 лет...
Павел Гусев: Я за Яковлева!
Роман Гусаров: Мы будем голосовать.
Павел Гусев: Давайте, за Яковлева.
Время беседы подошло к концу. Спасибо вам всем за этот разговор! Я в наше авиастроение верю, лишь бы билеты на самолеты были нам всем по карману. В общем, полетаем!
С вами был главный редактор «МК» Павел Гусев. Увидимся через неделю.