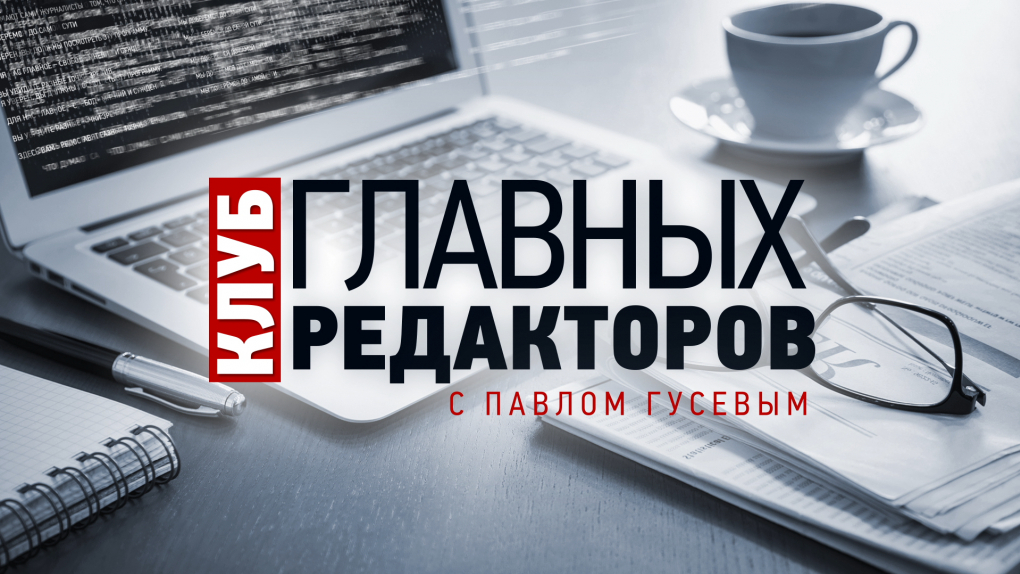Ловушка на проводе
https://otr-online.ru/programmy/klub-glavnyh-redaktorov/lovushka-na-provode-87981.html 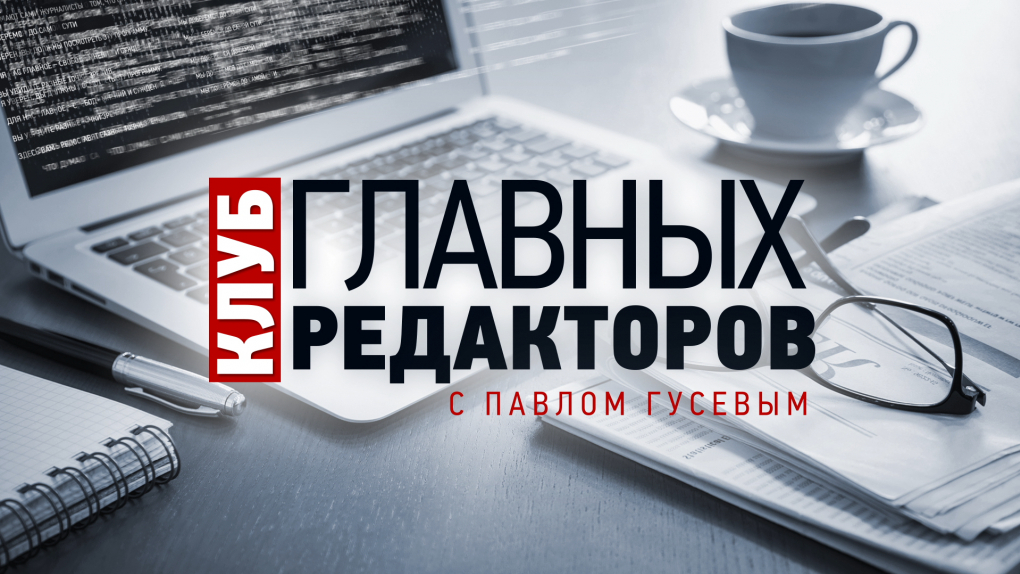
Павел Гусев: Здравствуйте! Я Павел Гусев, и это «Клуб главных редакторов».
Сегодня мне хотелось бы затронуть, пожалуй, одну из самых животрепещущих тем для жителей нашей страны – телефонное и компьютерное мошенничество. Оно все серьезнее угрожает не только безопасности людей, но и нашей страны.
СЮЖЕТ
Голос за кадром: Телефонный звонок с незнакомого номера грозит обернуться самыми неприятными последствиями для семейного бюджета, а кому-то может и вовсе сломать жизнь. Граждане собственноручно, добровольно отдают мошенникам последние сбережения, влезают в кредиты, продают квартиры.
По данным МВД, в прошлом году жертвами телефонных аферистов стали 344 тысячи россиян, примерно четверть из них – это пенсионеры. Зона повышенной опасности, конечно же, интернет: вирусные рассылки, поддельные сайты и дипфейки – методы обмана россиян становятся все изощреннее. Один неосторожный переход по ссылке в письме от неизвестного доброжелателя, и на балансе вашей банковской карты сплошные нули.
На этой неделе Владимир Путин подписал закон о мерах борьбы с телефонными и кибермошенниками. Для сотрудников госструктур и финансовых организаций вводится запрет на общение с гражданами через иностранные мессенджеры. От рекламных и спам-рассылок теперь можно отказаться в личном кабинете абонента мобильного оператора. На Госуслугах можно установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт.
Документ вводит практику «второй руки»: каждый из нас сможет назначить свое доверенное лицо, к которому банк будет обращаться за подтверждением операции по выдаче наличных или оформлению кредита. Кроме того, банки теперь обязаны распространять меры по борьбе с мошенничеством не только на онлайн-переводы, но также и на операции в банкоматах.
Павел Гусев: У меня в гостях:
Евгений Беляков, экономический обозреватель медиагруппы «Комсомольская правда»;
Леонид Чуриков, эксперт по информационной безопасности, ведущий аналитик «СерчИнформ»;
Михаил Игнатов, оперативный сотрудник РУОП МВД России по городу Москве в 1995–2004-х гг.
Давайте начнем с вашей позиции в этом вопросе. В чем вы видите опасность? Откуда взялась эта проблема? И что за этим стоит?
Евгений Беляков: Раз уж я первый, могу начать.
Павел Гусев: Да.
Евгений Беляков: Есть проблема, есть очевидные мошеннические действия, которые приобрели большой масштаб, и, соответственно, стоит воспринимать это как некий факт, с которым нам теперь нужно каким-то образом бороться и при этом найти определенный баланс между безопасностью и нашим комфортом как в т. ч. клиентов тех же банковских организаций.
Поэтому здесь мне скорее нравится такой сбалансированный подход, который сейчас во многом Центробанком и продвигается, когда они, с одной стороны, выстраивают определенные барьеры, но делают это без такого сильного фанатизма, чтобы не ущемлять интересы граждан в том числе.
Павел Гусев: Подождите, вот вы говорите, и Центробанк, и еще банки, и пр. Но ведь сколько прошло времени, и не они тревогу начали бить, насколько я понимаю, – это массовое явление, которое охватило всю страну, и деньги там не два миллиона, не три миллиона, не десять миллионов, а миллиарды.
Михаил Игнатов: Миллиарды.
Павел Гусев: Миллиарды, сотни миллиардов! А почему до этого-то никто не бил [тревогу]? И банки, более того, они многие начали говорить: «Мы должны возвратить только...» – и называют какой-то маленький процент от похищенных сумм. Почему на сегодняшний день мы вот видим вот такое безобразие?
Леонид Чуриков: Потому что, для того чтобы решать проблему, нужно правильно видеть эту самую проблему. Вот мы говорим, борьба с мошенниками, – борьба с мошенничеством как с явлением в человеческой цивилизации бесперспективна, потому что мошенники были, есть и будут всегда. Кто такой мошенник? Это человек, который кого-то обманул.
Значит, есть пострадавший, появляется мошенник и мошенничество. Мы, казалось бы, решаем проблему этого самого пострадавшего, но взгляд на эту проблему у самого пострадавшего и у государства, которое решает эту проблему законами и т. д., разный. Человек идет на работу, пострадавший, сворачивает к банкомату, потому что ему позвонил сотрудник спецслужбы и сказал «срочно снимай деньги, сейчас подъедет инкассатор, передашь ему, мы спасем», снял деньги, передал лжеинкассатору, понял, что его обманули, и говорит: «Меня загипнотизировали, обманули, перехитрили, кто мне поможет?»
Смотрит вокруг, видит указатели «Идите в суд». По этому указателю идут мало, потому что у нас миллионы инцидентов в год мошеннических, 9 тысяч судебных дел, и суду сложно доказать. Кроме того, даже если ты суду что-то доказал, потратил деньги, не ходя на работу, или на адвоката, и суд даже принял решение в твою пользу, ему надо найти того, кто тебя обманул...
Павел Гусев: Да, конечно.
Леонид Чуриков: У этого человека надо найти деньги, которых может не оказаться, чтобы тебе что-то вернули. То есть пойдешь в суд – шанс на то, что ты что-то вернешь, маленький. Человек смотрит, кто еще поможет, видит, на небе загорелся закон, он говорит: «Закон, вышел закон для меня!» У него отношение такое: «Вот закон против мошенничества – это закон, который мне поможет!»
Как на это смотрит государство, которое, собственно, выпустило этот закон? Оно смотрит следующим образом: я – государство, я тут управляю гражданами, слежу за порядком. Я говорю гражданину: «Иди на работу, поработаешь, заплатишь налоги, будет порядок». А он что сделал? А он свернул к банкомату, снял деньги, отдал их вражескому государству, террористической организации, наркокартелю – полный беспредел. То есть я думаю, что это я управляю, он меня слушается, а оказывается, есть какие-то люди, которые управляют этим человеком более эффективно, чем я. «Что это за люди?» – спрашивает государство.
Павел Гусев: Вот.
Леонид Чуриков: «И какие такие у них инструменты есть, что они так здорово управляют этим человеком? И могу ли я использовать эти инструменты в своих хороших, естественно, целях?»
И государства начинают использовать те же самые инструменты, социальную инженерию и пр., для решения своих государственных задач: политических, военных и т. д. Другие государства, на которые направлены эти атаки, понимают, что проблема вышла на новый уровень, она мгновенно вышла на уровень национальной безопасности, и нужно что-то делать. И вот так появляется этот самый закон.
Павел Гусев: Вот специалист у нас.
Михаил Игнатов: Скажу свое мнение по этой теме. Вот Леонид абсолютно прав, что мошенничество – это вид преступления очень старый и древний, т. е. это злоупотребление путем доверия. Всегда люди друг друга обманывали, кто-то обманывал, это было испокон веков. То, что касается сегодняшнего [дня], то, что мы рассматриваем, виды мошенничества вот этого телефонного, он относительно свежий, совсем недавно он появился у нас, но занял такую очень серьезную нишу.
Павел Гусев: А когда он появился? Давайте вот так вот представим. Когда этот вид мошенничества вот так вторгся в нашу жизнь? Год, два, три?
Михаил Игнатов: Я скажу, что нет, не год – это началось так вот в массовом порядке лет, наверное, 5 назад, примерно 5–6 лет назад он уже начал внедряться в нашу жизнь. Сначала постепенно-постепенно-постепенно, потом все сильнее, сильнее и сильнее. Когда там, на той стороне баррикад, поняли, что люди ведутся, что можно на этом зарабатывать, что можно людей кидать вот таким образом, они стали это внедрять массово.
И схемы вот эти мошенничества они постоянно меняют, все время меняются, она долго, эта схема, не задерживается, одна и та же схема, которую... По ней уже бесполезно что-то говорить, потому что уже никто на это не клюет.
Павел Гусев: Не ведутся, да.
Михаил Игнатов: Значит, они меняют. Там очень хорошие сидят специалисты-психологи, аналитики...
Павел Гусев: «Там», вот вы говорите, там, – это зарубеж?
Михаил Игнатов: В первую очередь это Украина.
Павел Гусев: Украина.
Михаил Игнатов: Это, наверное, 80% звонков идет посредством компьютерной инженерии из Украины, с территории.
Павел Гусев: То есть мы, по сути дела, подкармливаем вот этот вот режим?
Михаил Игнатов: Да.
Павел Гусев: Путем обмана, путем того, что совершаем глупости, мы подкармливаем фашистский режим?
Михаил Игнатов: Абсолютно правильно. Знаете, может быть, не сам режим, а людей, которые связаны с этим режимом, потому что я не верю, что все вот эти украденные деньги идут на какие-то блага народа Украины, ни в коем случае – это идет по карманам каким-то определенным гражданам, которые занимают те или иные ниши в том же руководстве государства.
Это у них практически стало государственной программой. Почему? Потому что это курирует и Служба безопасности Украины, и курирует Главное управление разведки. То есть они дают данные, понимаете, они собирают данные у наших продажных всяких структур, которые так или иначе связаны с персональными данными людей, они покупают эти данные... Ведь звонки-то не случайно получаются. То есть мне звонят, допустим, меня называют по имени-отчеству, понимаете.
Павел Гусев: Конечно.
Михаил Игнатов: То есть они знают все, знают мой адрес, они знают мои какие-то установочные данные, понимаете. И с таким еще голосом... Их выдает акцент, конечно, выдает акцент, потому что я думаю, что многие, кто имеют слух, сразу услышат, что не москвич разговаривает.
Евгений Беляков: Я бы здесь добавил, что, возможно, именно кол-центры, вот эти люди, которые сидят на телефонах, они сидят во многом как раз за рубежом, на Украине, может быть, в каких-то других странах еще. Но очень большая инфраструктура, в т. ч. людская инфраструктура, находится внутри страны, т. е. это те люди, на которых открываются счета. Ведь жертвы когда отправляют кому-то деньги...
Михаил Игнатов: Это пособники, так скажем.
Евгений Беляков: (Да.) ...они отправляют деньги на счета конкретных людей.
Павел Гусев: А они знают, на кого они работают, вот эти вот пособники, негодяи?
Евгений Беляков: Да. Они отдают деньги, например, курьеру наличными в спортивной сумке. Вот этот курьер, он же явно не находится на территории Украины в этот момент, он гражданин России, он приехал, он знает, за что работает.
Михаил Игнатов: Не факт, что он гражданин России.
Евгений Беляков: Ну, в большинстве случаев... Но он находится на территории России.
Михаил Игнатов: Очень много для этих целей используют этих самых, как их, незаменимых «ценных специалистов», как их сейчас называют, а вообще мигрантов, как мы их называем. Вот они очень много их используют. Они на все готовы, они пойдут, что ни скажешь, они пойдут сделают, главное, деньги им заплатите. Поэтому не каждый москвич согласится пойти, взять сумку с деньгами, отвезти куда-то, понимая, что это, возможно, ему обернется тюрьмой дальнейшей, а мигранту все равно: он взял деньги, отнес, получил деньги и уехал в кишлак свой родной, и все, и найдите его потом.
Павел Гусев: Причем он это будет делать за копеечные деньги.
Михаил Игнатов: Конечно, абсолютно правильно.
Павел Гусев: Это не будут, знаете, миллионы они на это тратить – он за пару десятков тысяч готов пойти на такие преступления. Так я понимаю?
Михаил Игнатов: Конечно, вы правильно говорите, Павел Николаевич.
Евгений Беляков: На самом деле там достаточно крупные комиссии, потому что все-таки наказание довольно серьезное, мигранты тоже боятся наказания: если их поймают, им гораздо строже... Это не депортация, их тоже посадят, т. е. это...
Михаил Игнатов: Я поспорю с вами, что с ними строже.
Евгений Беляков: В любом случае, ну вот какие я цифры слышал, и это озвучивали как раз правоохранительные органы и Центробанк, минимум 10%. Курьер, который наличные приезжает забирает, рискует ради каких-то серьезных сумм. Ради 10 тысяч рублей никто не поедет забирать сумку, понимая, что это, скорее всего, какое-то мошенничество.
Павел Гусев: Ну понятно.
Михаил Игнатов: Смотря какую сумму забирают.
Леонид Чуриков: Я бы чуть-чуть посмотрел немножко по-другому на эту проблему, потому что мы ориентируемся на модные тенденции...
Например, мы сейчас называем «телефонное мошенничество», а на самом деле оно возникло в начале 1990-х, когда возникли каналы коммуникации с людьми, интернет, каналы коммуникации с огромным количеством людей по всему миру. Первое мошенничество было не телефонным – это были электронные письма, и продавались в основном лекарства, потому что была проблема купить лекарства, в Америке можно было по рецепту, где-то оно стоило дорого и т. д.
Павел Гусев: Это так было.
Леонид Чуриков: И первые партнерские сети в сети Интернет мошеннические, они торговали как раз этим, поддельными лекарствами, фальшивыми, потом перешли на наркотики, на другие темы и т. д. Просто с развитием каналов коммуникации сейчас мы перешли, больше коммуницируем через телефоны, поэтому это называется телефонным мошенничеством. Оно на самом деле мошенничество в глобальной коммуникационной сети.
Проблема во многом вот с чем связана: эта сеть коммуникационная – она не наша. Вот в нашей стране мы в 1991 году к ней присоединились, но это как трасса «Формулы-1»: вроде в Сочи наша трасса «Формулы-1», но ее строил зарубежный специалист по зарубежным стандартам, там ездят зарубежные машины, там крутятся зарубежные деньги и т. д. С интернетом все то же самое.
Мы когда присоединялись к этой сети американской... Она была создана в Америке подразделением Минобороны и называлась сначала в честь этого подразделения, ARPANET, в 1969 году. В 1970–1980-е гг. Канада присоединилась к этой сети, потом Европа, а в 1991-м – Россия. Мы приняли технические правила игры, значит, протоколы, по которым нужно передавать данные, регистрация сайтов, доменов и т. д., мы все это записали, как правильно делать... Правила, которые написали не мы.
Павел Гусев: Не мы, нам их...
Леонид Чуриков: Точно так же мы приняли идеологию. Если кто помнит, в 1990-е гг. какая была идеология интернета? Мы все верили, что интернет – это что такое? Это демократичная среда, там каждый может быть анонимным, можешь быть кем хочешь...
Павел Гусев: Ну да...
Леонид Чуриков: Неважно, кто ты в этой жизни, – там ты эльф или еще...
Павел Гусев: Так было, так было.
Леонид Чуриков: Мы верили в это. И если вы думаете, что мы сейчас такие умные, что в подобные мифы не верим, посмотрите на миф про криптовалюту, нам сейчас то же самое говорят про биткоин.
Павел Гусев: Совершенно верно. Но это мы еще поговорим.
Размеры этого бедствия стали такими масштабными, что Владимир Путин на коллегии МВД был вынужден обратить на нее внимание присутствующих.
ВИДЕО
Владимир Путин, президент РФ, 05.03.2025: Прошу обратить дополнительное внимание на раскрываемость преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, тем более что в прошлом году, к сожалению, их число, вы это хорошо знаете, выросло, а ущерб превысил 200 миллиардов рублей. Обращаю внимание, что раскрываемость таких преступлений, к сожалению, тоже снизилась и составила порядка 23%.
Конечно, мы понимаем, что преступники ищут и используют новые возможности, но и органы власти должны соответствующим образом на эти угрозы реагировать. Ваша задача – во взаимодействии с другими профильными ведомствами искать новые, более эффективные методы борьбы с этой угрозой.
Павел Гусев: К нашей беседе присоединяется Максим Семов, председатель Комитета по финансовой грамотности Ассоциации российских банков. Расскажите, что сегодня делают банки, чтобы обезопасить граждан от мошенников?
Максим Семов: Здравствуйте.
На самом деле механизмов достаточно много, мероприятий, которые банки проводят в рамках антифрода, т. е. противодействия мошенничеству, в рамках противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, достаточно много. У нас есть готовый набор инструментов, который не только со стороны банков, скажем так, реализуется, но он прошел экспертизу со стороны государственных органов, и тут у нас есть какое-то взаимодействие.
Сначала, конечно, мы были не готовы к этому, потому что эти люди, которые приходят, которые под воздействием мошенника находятся, они мало чем были отличимы от обычного клиента. Он так же совершенно приходит, он отвечает на все наши вопросы, которые мы ему задаем, говорит, что перевод он совершает исключительно по своей собственной инициативе, и, в общем-то, у нас не было законных обоснований, для того чтобы такой перевод остановить.
Теперь у нас есть поправки в закон 161-ФЗ, есть рекомендации Банка России, есть рекомендации Росфинмониторинга о том, как противодействовать, как выявлять таких клиентов, как останавливать эти платежи. То есть теперь мы на основании, допустим, федерального закона 161-ФЗ совершенно спокойно имеем право приостановить операцию, если она соответствует признакам, которые установил Банк России, совершения этой операции без добровольного согласия.
Павел Гусев: А что изменится все-таки в деятельности банков вот в этой ситуации после принятия закона, который начнет действовать с летних месяцев, и после выступления президента?
Максим Семов: Во-первых, оно уже изменилось, т. е. наши механизмы, которые сейчас есть по антифроду, по противодействию мошенничеству, усилились с введением поправок в 161-ФЗ в прошлом году. То, что сейчас у нас есть механизм, позволяющий нам не только выявлять этого человека под мошенником, но мы и можем, скажем так, оценивать его, как сказать, риск, предрасположенность к риску этого мошенничества. Вот у нас будет сейчас взаимосвязь с операторами сотовой связи, мы вообще очень сильно на них надеемся, что будет сокращено вот это количество этих неизвестных, «серых» сим-карт...
Вот если зайти на какой-нибудь сайт бесплатных объявлений, там совершенно спокойно продают сейчас т. н. прокси-фермы. Это ферма, в которой стоит 50–60 модемов с телефонными симками, которые позволяют обзванивать до тысячи человек в сутки. Эти фермы приносят доходы, никакого контроля за ними нет. Ну хорошо, блокируются эти симки, опять же по информации от банков, которую мы теперь должны направлять и в Банк России, и операторам сотовой связи, у нас этот механизм теперь наконец заработал, заработал механизм быстрого взаимодействия.
Если раньше у нас от заявления в полицию проходило две недели, грубо говоря, то теперь у нас этот срок сокращается, т. е. у нас есть теперь механизм... Причем это даже не то, что на стороне банков, это уже...
Павел Гусев: Понятно, спасибо. Пожалуйста.
Михаил Игнатов: У меня вопрос к сотруднику банка.
Скажите, пожалуйста, мы знаем прекрасно, что у людей на счетах, особенно у пенсионеров, не такие большие суммы хранятся, которые могли бы у них мошенники забрать, т. е. 100 тысяч, 150, ну 200 тысяч рублей, а забирают у них миллионы. А почему миллионы забирают? Потому что они бегут и получают кредиты, даже не бегут, а почему-то им выдают кредиты дистанционно, понимаете, вот так вот по звонку.
Вот скажите, когда банки прекратят полностью выдавать кредиты без присутствия человека, т. е. непосредственно того, кто хочет взять этот кредит? Почему дистанционно до сих пор выдаются людям кредиты, поступают на счет, а потом эти деньги со счетов они снимают, обналичивают или переводят на другой как бы безопасный счет? Вот скажите, когда это закончится?
Максим Семов: Закончилось это уже с введением вот этого механизма самозапрета, который введен уже в действие...
Михаил Игнатов: Сразу скажу – не все самозапрет себе делают, даже не знают, что это такое, многие люди, вообще не понимают. Когда банки вообще просто прекратят выдавать кредит дистанционно?
Максим Семов: Кредиты дистанционно, я думаю, без этого инструмента самозапрета не прекратят выдавать, потому что это востребованная услуга.
Вот вы говорите, миллионы переводят. Вы знаете, какая средняя сумма денег, которые были украдены у людей мошенниками в 2024 году? – 15 тысяч рублей, 75% – это суммы менее 20 тысяч рублей. Это не такие большие суммы.
Я почему говорю, что мы все, вот банки, например, останавливаем сейчас все операции, которые подозрительные? И такие вот громкие случаи, да, они бывают, конечно, но это все достаточно редко. Средняя сумма вот из этих 27 миллиардов не превышает 20 тысяч рублей. Основной поток, который идет через дропов, – это маленькие суммы, от 3 до 5 тысяч рублей.
Почему, кстати, вот с полицией было сложно изначально? Когда приходит человек и говорит: «Я сам перевел мошенникам 5 тысяч рублей», – какая задача у полиции? Сделать все, чтобы он ушел и не принять это заявление.
Павел Гусев: Ну да...
Максим Семов: Так было, потому что у него тяжкие преступления, у него изнасилование, грабеж, убийство, а тут человек, который самостоятельно перевел 5 тысяч рублей.
Павел Гусев: С 5 тысячами пришел.
Скажите, вот Владимир Владимирович Путин поручил правительству России обязать банки возвращать похищенные денежные средства клиентам в случае взлома банковских приложений. Почему до этого, так сказать, практически не было, 10% банки иногда возвращали, если что-то подтверждалось? Будет возврат теперь или нет?
Максим Семов: Будет. Дело в том, что этот механизм установлен, он существует. Есть закон 161-ФЗ, в котором четко написана обязанность банка по возврату средств, которые были украдены у человека, при соблюдении двух условий. Первое условие: этот гражданин, клиент банка, соблюдал правила использования электронного средства платежа, т. е. он не сообщал никому ПИН-код, он не раскрывал кодов доступа и т. д. И второй момент – он обратился в банк не позднее следующего рабочего дня после того, как ему стало известно о несанкционированном списании.
Павел Гусев: Понятно.
Максим Семов: Эта обязанность банков существует.
Павел Гусев: А когда система эта заработает? Вот чтобы наши сегодня телезрители услышали это. Когда заработает?
Максим Семов: Смотрите, как только ваши телезрители это услышат, она заработает.
Павел Гусев: Все.
Михаил Игнатов: Хочется надеяться на это.
Максим Семов: Я занимаюсь этим самым уже несколько лет, и я каждый раз, к сожалению...
Павел Гусев: Пожалуйста.
Евгений Беляков: Я на самом деле как раз хочу оппонировать насчет вот таких жестких мер, которые, например, Михаил предлагает. Все-таки цифровизация – это большое достижение наше сейчас, это достаточно серьезный комфорт.
Михаил Игнатов: Достижение смотря для кого. Для большинства людей это не достижение, а это несет какие-то потери и проблемы.
Евгений Беляков: Можно я скажу свою мысль до конца? Вы потом, если что, добавите.
Михаил Игнатов: Конечно.
Евгений Беляков: Если мы хотим полностью исключить риски мошенничества, тогда нам нужно людям отключить мобильную связь и нужно отключить всех от банковских услуг. Вот тогда мошенники физически не смогут до нас добраться.
Михаил Игнатов: Не согласен.
Евгений Беляков: Это к вопросу о крайних мерах, почему нельзя дистанционно выдавать.
Павел Гусев: Вопрос?
Евгений Беляков: Соответственно, здесь, мое мнение, нам нужно... Уже в принципе достаточно много комплексных решений принято, и в т. ч. дистанционная выдача кредита сейчас у нас (Максим, может быть, меня поправит), больше 200 тысяч если выдают, у нас 48 часов есть период охлаждения, в течение которого, соответственно, человек может прийти в себя, поговорить с родственниками и понять, что он совершает...
Павел Гусев: ...большую ошибку.
Евгений Беляков: ...запрашивает кредит в целях мошенничества.
Леонид Чуриков: Коллеги, можно тоже пять копеек добавить? Просто мы, видите как, набрасываемся на банки по проблеме, которая на самом деле не банковская. Банки зарабатывают деньги, это бизнес.
Павел Гусев: Ну понятно.
Леонид Чуриков: Не проблема бизнеса решать проблемы национальной безопасности.
Павел Гусев: Давайте сейчас мы не будем о бизнесе. У нас есть человек, который доложил нам, что сегодня происходит после выступления Владимира Владимировича Путина и как банки работают. На мой взгляд, достаточно убедительно и очень точно вы изложили ситуацию.
Вы знаете, в этой жизни зачастую вот для человека очень важно, когда такие специалисты, как вы, очень точно разъясняете, что же может привести человека к страшной беде, потому что некоторые отдают свои последние копейки, деньги, то, что они накопили. Это ужасно, что с этими людьми происходит. И вот ваше объяснение, разъяснение, на мой взгляд, очень важно для сегодняшних телезрителей, для нас всех.
Скажите, пожалуйста, в завершение: вот вы верите, что вот то, что вы сегодня рассказали, то, что приняты соответствующие распоряжения, законы, они действительно помогут уменьшить количество вот этого страшного преступления в отношении простых людей?
Максим Семов: Я верю в это, да, это действительно поможет снизить вот этот объем. Другое дело, что мы же, понимаете, как здесь работаем? Мошенники достаточно сильно... Это в принципе превратилось в индустрию, мошенничество. И люди когда общаются, например, с мошенниками, они действительно становятся жертвами из-за того, что они общаются один на один не с конкретным мошенником, а с какой-то вот просто одной из голов вот этого змея многоголового, который вооружен и техникой, и инструментами, и сценариями – всем-всем всем.
Здесь со стороны банков, да, мы на первой линии обороны, мы работаем, потому что мы заинтересованы в наших клиентах, нам не нужно, чтобы клиент обижался на нас, жаловался или еще что-то. Да, это поможет, но если люди будут правильно информированы. Вот вы правильно сказали, что нужно информировать. Мы – за. Вот сейчас коммерческие банки занимаются этим.
Павел Гусев: Спасибо большое за вашу информацию!
Максим Семов: Спасибо вам!
Павел Гусев: Я думаю, что сегодня очень многие телезрители вам скажут спасибо за то, какое разъяснение вы им дали. Спасибо вам большое, спасибо!
Максим Семов: Спасибо!
Леонид Чуриков: Вот эти инструменты, которые банкам даны для удобного оформления кредитов и т. д., – это же кто им разрешил пользоваться этими инструментами, кто создал инфраструктуру? Государство. Это государственная задача, регулировать безопасное использование вот этой самой инфраструктуры.
У нас банки заработали в прошлом году порядка 4 триллионов рублей. По данным Центробанка, украли из банков 15 миллиардов, это меньше чем 0,5%.
Евгений Беляков: Двадцать семь миллиардов.
Леонид Чуриков: Значит, вернуть эти деньги – это просто волевое решение, если государство скажет банкам: «Значит так, тем, у кого украли, возвращаете все полностью, а дальше вы разбираетесь в судах, с правоохранителями, ищете, кто украл, и т. д.» И это становится бизнесовая задача, т. е. банк ее решает уже как задачу для себя.
Павел Гусев: Ну конечно. Банку человек доверил деньги.
Леонид Чуриков: Вот это был бы способ решения этой проблемы. А мы нападаем на банки и говорим: «Вы себя когда стегать будете плетками сами?» Они говорят: «Мы – никогда. Зачем нам это нужно делать?» А с государства мы не спрашиваем.
Государство пишет поправки. Когда вышел закон, стало понятно, что он проблемы обычных людей не решает, там не написано нигде про людей, и вышли поправки со стороны президента, он же дал тут же поручение. Понимая, что ожидания людей от нового закона не выполнятся и люди будут в бешенстве, он написал: «Ребята, нужен инструмент контроля за этим законом, нужно все-таки людям возвращать какие-то средства». Бизнес тут же сказал: «Будем возвращать, если зловредное ПО взломает нашу банковскую систему». Сейчас никакое ПО в лоб не взламывает никакую систему.
Павел Гусев: Конечно.
Леонид Чуриков: Ты его должен сначала установить у себя. Ты думаешь, что это письмо от банка, открываешь его, у тебя открывается программа удаленного доступа, она начинает контролировать твой телефон, загружает программу-стилер, и потом у тебя уже все уходит. И тебе могут сказать: «Это не ПО взломало твой аккаунт – это ты с помощью этого ПО, сам его установив, взломал аккаунт». И возможно, с хорошими юристами банки по этому поручению не будут никому ничего возвращать.
Поэтому надо сказать: «Ребята, если что-то украли у наших граждан, возвращаем все».
Павел Гусев: Вот это вот точно совершенно.
Леонид Чуриков: А где мы возьмем эти деньги? У нас национальная платежная система...
Михаил Игнатов: Кроме двух поправок: если выполнено то и выполнено это, тогда вернем. А если вы этого не сделали, не понимая, вы на вторые сутки обратились, допустим, или на третьи, вы просто не знали, что у вас украли, вам уже ничего не компенсируют, потому что вы не вовремя обратились. Вот такие поправки есть в банках. Поэтому я неслучайно спросил.
Понимаете, надо убрать причины. То есть вот человек не понимает, его ввели в заблуждение мошенники, он знает, что он, допустим, свято верит в то, что выполняет задачу спецслужб, поручение и т. д., надо сделать то-то, то-то, то-то, «на «безопасные счета» отправить надо», «надо взять кредит, чтобы не взяли другие люди на тебя кредит»... Они морочат голову очень хорошо. Человек если придет в банк брать кредит непосредственно сам, он будет общаться с кем-то из сотрудников банка.
Павел Гусев: Да.
Михаил Игнатов: Ему там, может быть, мозги поправят: «Вы для чего кредит берете? А что, кто вас... ? Может быть, вам позвонили?» – «Да, позвонили, сказали спецслужбы, надо взять». – «Так это мошенники были». И они этим пользуются, мошенники, они никогда не сделают так, чтобы человек пошел и общался с кем-то из должностных лиц, – все дистанционно, пожалуйста.
Поэтому я и задал вопрос: почему дистанционно до сих пор выдают кредит людям? Если выдавать не будут кредит дистанционно, значит, человек не сможет просто получить этот кредит, чтобы отдать его кому-то, мошенникам. И квартиру он не сможет... Допустим, многие продают квартиры, даже идут продают квартиры, чтобы обезопасить якобы эту квартиру, вот «участие в оперативном эксперименте»...
Павел Гусев: Да-да-да.
Михаил Игнатов: Он в нем участвует, он свою квартиру как бы продает (на самом деле он не продает, как ему говорят), и он деньги эти должен отдать курьеру, вот как мы говорили. Приезжает курьер, пакеты забирает и увозит.
Павел Гусев: И привет.
Михаил Игнатов: И все, денег больше нет.
Евгений Беляков: И квартиры нет.
Михаил Игнатов: Вот опять же надо сделать механизм такой купли-продажи недвижимости, квартиры, чтобы не было такого, что я пришел, договор один написал, продал кому-то не знаю кому, – чтобы это был механизм многоходовый, и в этой многоходовке чтобы человек смог, пообщавшись с теми же риелторами нормальными или с государственными служащими типа, знаете, «Москомимущество», допустим, которое относится...
Павел Гусев: Да.
Михаил Игнатов: И им объяснят: «Вы квартиру почему продаете, на каком основании? У вас есть переехать куда-то, или вы нуждаетесь в деньгах?» В этой беседе человека можно раскачать. Раскачать на что? Оказывается, он продает квартиру, чтобы деньги отдать, на «безопасный счет» положить. Все, мошенническая схема тут же слетела.
Евгений Беляков: А вы думаете, простому сотруднику Росреестра есть в этом какой-то резон? Вот сотрудник Росреестра пришел, к нему пришел человек заполнять что-то...
Михаил Игнатов: Сотрудник Росреестра, он государственный служащий, он должен быть проинструктирован, что при любой сделке он должен задать такие-то, такие-то вопросы, он на них получить должен четкие ответы. Вот тогда, понимаете, может быть, у очень многих людей, я вас уверяю, у них что-то прояснится в голове, что «я делаю что-то не то».
Павел Гусев: Вот это, кстати говоря, очень правильно, что должна быть инструкция, куда, почему, откуда.
Михаил Игнатов: Правильно.
Павел Гусев: А у нас обычно...
Евгений Беляков: Мошенники инструктируют все это. Они говорят: «Вам будут задавать такие-то и такие-то вопросы, вы на них отвечаете вот так и вот так».
Павел Гусев: Ах вот оно что...
Евгений Беляков: То есть они все эти скрипты уже знают.
Хочу сказать, во-первых, по дистанционным кредитам, здесь Максим уже ответил, их действительно сейчас в гораздо меньшей степени стали выдавать. Я вот даже уже год назад лично пробовал взять кредит, меня минут 20 по телефону допрашивали, зачем мне это нужно. У меня раз пять или семь уточнили, не нахожусь ли я под воздействием... Я говорю: «Слушайте, я адекватный человек, я экономический обозреватель, ну как бы я разбираюсь в этих историях». Уже определенные механизмы этого есть.
Что касается Росреестра, продажи квартир и т. д., сейчас у нас есть уже взаимодействие сотовых операторов, банков, Центробанка, правоохранительных органов в том числе, и вот как раз сюда, в эту цепочку, хотят включить Росреестр. Потому что, действительно, продажа квартир, если мне память не изменяет, у нас только в Москве за прошлый год было порядка 20 случаев. Если это экстраполировать на все регионы, у нас порядка тысячи случаев продажи квартир и потери людей из-за того, что они вот собранные от продажи квартир деньги передали мошенникам. То есть это действительно катастрофические уже последствия, это уже последний уровень мошенничества, когда люди забирают все сбережения, кредитные деньги, еще и квартиру забирают.
Михаил Игнатов: И заметьте, это не у клиента сумасшедшего дома, это все серьезно. Например, у нас поп-звезда Лариса Долина точно так же попалась в эту ситуацию.
Павел Гусев: В России недавно появился совершенно новый вид мошенничества, его именуют дипфейк. Он связан с одной из самых необходимых областей человеческого социума – интернетом.
СЮЖЕТ
Голос за кадром: Интернет-мошенники придумали новый способ обмана: взламывают аккаунты пользователей популярных мессенджеров и скачивают т. н. «кружочки» – видеосообщения, которыми граждане обмениваются друг с другом в режиме реального времени. Далее дело техники: с помощью нейросетей на их основе монтируются новые видеосообщения, т. н. дипфейки, которые рассылают друзьям и родственникам жертвы.
Созданный искусственным интеллектом виртуальный двойник владельца аккаунта практически неотличим от реального человека и не вызывает сомнений у собеседника. Он может запросто одолжить крупную сумму денег, под надуманным предлогом помочь перевести деньги на чужой банковский счет, взять кредит.
Преступники создают дипфейки работодателей, сотрудников государственных органов или известных личностей, причем для этого мошенникам даже не нужно обладать какими-то особыми знаниями: сгенерировать чужой образ с помощью специальных программ можно даже на обычном смартфоне.
Михаил Игнатов: По поводу дипфейков, Павел Николаевич, что хочу сказать? Да, есть такие сейчас вот технологии. Как правило, людям звонят или их начальники, под видом их руководителей, или их какие-то близкие родственники, кто-то из знакомых, понимаете, которые просят или деньги перечислить, или попал в беду, надо что-то выполнить... – много всего, для того чтобы изъять деньги у этого человека.
То есть поэтому всем этим дипфейкам верить нельзя, все люди должны это знать уже давно: «Хорошо, у тебя проблема? Сейчас, секундочку», – отключаешься, берешь телефон, сам ему набираешь, этому человеку, но не посредством WhatsApp или другого какого-то мессенджера, а именно по связи GSM обычной набираете и говорите: «Саша, Петя, Таня, у тебя все нормально? Тебе что, деньги нужны?» – «Да нет, ничего мне не нужно». – «Ты мне только что звонил по видеосвязи, там что-то у тебя проблемы». – «Да нет у меня проблем никаких». – «Все, спасибо, извини, пожалуйста, все, до свидания, хорошего дня», – все, закрыли тему. Понимаете, только обратный вызов, только обратная связь.
Павел Гусев: Совершенно верно.
Михаил Игнатов: Иначе так и будут люди попадаться, так же будут верить и так же будут отправлять свои сбережения не пойми кому.
Павел Гусев: Вот вчера мне позвонил приятель, говорит: «От тебя пришел звонок с просьбой то-то, то-то, то-то». Я говорю: «Какой звонок? Я тебе не звонил». – «Не может быть! Я тебе сейчас перешлю», – и присылает мне вот это, ну как это...
Михаил Игнатов: Скрин вот этот.
Павел Гусев: Да. Там фотография моя лет 30 назад, когда я был в Германии на каком-то мероприятии, я помню, я там даже в баварской шляпе, по-моему, сижу. Я говорю: «Ты чего? Я даже эту фотографию уже забыл, не знаю, где она была у меня», – нашли где-то. Понимаете, что они делают?
Леонид Чуриков: Видите как, верить дипфейкам нельзя – а как не поверить ребенку, который тебе позвонил, как не поверить учителю, который тебе позвонил, коллеге?
Павел Гусев: А, вот это...
Леонид Чуриков: Вот мы идем с вами на телевидение, нам говорят: «Я вас встречаю, сейчас спущусь. Слушайте, я вам тут программку обновила, отсылаю», – и это знакомый вам человек сообщит. Вот как не поверить ему? Поэтому совет дать легко.
Михаил Игнатов: Только перезвонить.
Леонид Чуриков: Профессиональный летчик понимает, что надо в стрессовой ситуации, когда у тебя турбулентность, отказывают двигатели, нажимать нужные кнопки, совершать нужные действия. Их этому учат, не все справляются. А мы хотим 140 миллионов человек научить правильно действовать в стрессовой ситуации на уровне профессиональных разведчиков – это нереально.
Павел Гусев: Совершенно верно.
Леонид Чуриков: Поэтому ответственность не надо перекладывать, давая такие советы. Советы давать нужно, но после этого говорить людям, что «вы у нас какие-то, знаете, туповатые, слишком безалаберные, вот почему все ваши беды», – нет, нельзя на них перекладывать! Они у нас и так...
На первой линии, сказали, банк находится? Ничего подобного – на первой линии находятся люди обыкновенные, пенсионеры, рабочие, служащие, офисный планктон и т. д., вот они на первой линии, и они там гибнут от этих атак каждый день.
Павел Гусев: Совершенно верно.
Михаил Игнатов: Но все идет через банки.
Вы знаете, Павел Николаевич, в чем опасность мошенничества вот этого именно? Даже не само мошенничество, человек потеряет, допустим, какие-то сбережения; это тяжело, конечно, страшно, но не так страшно, как другие последствия возможные. После того, как его обманывают с деньгами, ему те же мошенники звонят и говорят: «Хочешь вернуть свои деньги обратно?» – «Хочу». – «А вот теперь ты должен сделать это и это, взять зажигательную смесь и бросить в военкомат».
Павел Гусев: Кошмар, кошмар...
Михаил Игнатов: Все, человека подводят под уголовную статью «Терроризм», понимаете, вот что опасно.
Павел Гусев: К нашей беседе присоединяется Юлия Кочетова, кандидат психологических наук, исполняющая обязанности заведующей кафедрой возрастной психологии.
Юлия Кочетова: Добрый день.
Павел Гусев: Как вы можете оценить сегодняшнюю ситуацию и с дипфейками, и с тем, что люди попадаются, казалось бы, на элементарном и верят?
Юлия Кочетова: Согласитесь, как это в песне поется, неизменной остается мода, что мы верим в чудеса, хотим верить в какие-то чудеса, и нас, в общем-то, обманывают периодически. И эта ситуация не только современная, просто сейчас другие способы, иные технологии, которые усовершенствуются.
По факту, группа риска, скажем так, люди с определенными индивидуальными в т. ч. психологическими особенностями, остаются примерно теми же самыми. Если мы говорим про такой психологический портрет жертвы мошенника, кто, скажем, может попасться в этом отношении, хотя на самом деле может попасться любой человек, здесь нам надо говорить про ряд таких вот важных категорий.
Например, эмоциональная уязвимость человека, если мы говорим про тревожность, панику или страхи человека. Например, когда запугивают, «ваш счет взломали», действуют на такие болевые точки с точки зрения тревожности человека.
Это, например, одиночество: часто бывает такое, что люди, которые одиноки, такие жертвы романов по переписке или друзей по переписке, которые, кстати, точно так же могут вымогать и финансовые средства, и все что угодно.
И часто это жалость и сострадание, т. е. это люди, которые такие сверхэмоциональные: например, пожилая женщина может перевести деньги больному внуку, когда часто звонят, говорят, что «срочно», «заболел» и т. д.
Это избыточная такая доверчивость людей, которую тоже нельзя отрицать, например, вера в авторитеты. У нас есть такая позиция, что, к примеру, человеку в форме или человеку в медицинском халате мы как будто бы доверяем больше. Или если нам звонят, например, и представляются кем-то из органов властей (что, кстати, очень часто бывает), тоже есть такая социальная установка в социальной психологии, что мы будто бы этому доверять начинаем больше.
Павел Гусев: Скажите, пожалуйста, а какие-то психологические приемы, что противопоставлять всему этому, есть или нет? Вот вы как психолог, как человек, который опытный, можете посоветовать или сказать, где можно найти такой совет, как противостоять этому?
Юлия Кочетова: Во-первых, нужно развивать, конечно, критичность мышления, потому что это самый главный залог того, что мы не будем игнорировать, так скажем, красные флаги. Потому что если мы будем осведомлены, если у нас будет достаточно информации, которую мы будем осваивать, будет сложнее попасться на роль жертвы. И в данном случае, конечно, особенно для групп риска, например, более пожилые люди должны к этому внимательнее относиться, т. е. развивать то самое критическое мышление.
У нас на самом деле, даже вот поделюсь личным опытом, мошенники уже дошли до таких, скажем, уровней, что пишут сотрудникам, допустим, кафедр, представляясь деканом или ректором, просят заполнить какую-то бумагу, и, конечно, сотрудник резко реагирует эмоционально...
Павел Гусев: Ну да.
Юлия Кочетова: Представляете, вам пишет ваш начальник, вам пишет ваш директор, и вы в состоянии таком шоковом, возможно, даже не задумываясь начинаете делать определенные действия. Поэтому очень важно взять сначала паузу, задуматься, что от меня просят, какие личные данные с меня спрашивают.
И здесь, конечно, нужно понимать, что критическое мышление – это залог успеха, его необходимо развивать, для того чтобы учиться отсеивать зерна от плевел.
Павел Гусев: Очень хорошо вы сейчас это говорите. Пожалуйста, коллеги.
Леонид Чуриков: Вы знаете, мы апеллируем к тому, что «давайте людей научим, они станут у нас какими-то более грамотными, устойчивыми», но у нас на «Марафоне желаний» в зале сидят десятки тысяч людей, записывают какие-то советы совершенно глупые, и это же вот люди, понимаете, вроде бы современные, с высшим образованием и т. д. Рассчитать на то, что людям дадут советы, объяснят, как себя правильно вести, и они будут этим советам следовать, не приходится, понимаете. Кто-то должен нести ответственность за эту ситуацию.
Павел Гусев: Как вы считаете?
Юлия Кочетова: Я считаю, что одно другое не исключает. Сейчас это звучит так, как будто бы то, что предложили с точки зрения развития критического мышления, развития психологической грамотности, информирования населения, это вроде бы как-то не работает. Это работает, если этим заниматься и если добавить то, о чем вы говорите. Одно другого не исключает, почему бы и нет.
Павел Гусев: Скажите, а кто обучает аферистов? Ведь они же, посмотрите, какие приемы [придумают], это же надо кандидатскую защищать или у вас брать консультации, чтобы вы разъяснили, как лучше психологически подойти к той или иной категории населения, пожилой, молодой, среднего возраста. Где и кто их учит, как вы считаете?
Юлия Кочетова: Это, вы знаете как, пример того, что Остапа Бендера тоже никто не учил. Есть тоже определенные индивидуально-личностные характеристики людей. Например, есть такое свойство, как макиавеллизм, т. е. это люди, которые хорошо умеют манипулировать другими людьми, у них это, скажем так, как некое такое свойство, которое развивалось в процессе жизни. Или, например, люди с пограничным расстройством личности, у которых очень низкий уровень эмпатии, сострадания, и при этом высокий уровень возможности манипуляции другими людьми.
Ведь мы же должны понимать, что есть определенные качества личности, которые могут быть как в положительную сторону, так и в отрицательную сторону – все зависит от направленности личности, от мотивации. Например, человек обладает высоким эмоциональным интеллектом, т. е. он понимает эмоции другого хорошо, он умеет воздействовать на эмоции другого человека; в зависимости от того, каковы его ценностные ориентации, так он и будет использовать свои качества.
Павел Гусев: Спасибо. Так.
Евгений Беляков: Скажите, пожалуйста, вот можете дать совет тем, кто уже стал жертвой мошенников, потерял какую-то сумму? Это же не только денежные потери, это же какие-то моральные потери, психологические.
Павел Гусев: Психологические.
Евгений Беляков: Да, т. е. им нужно после этого восстановиться. Вот есть ли какой-то алгоритм здесь?
Юлия Кочетова: Вы абсолютно правы, это замечательный вопрос. Психологи, конечно, советов не дают, лишь только дают рекомендации. Очень часто это такие ситуации, когда человек получает психологическую травму, т. е. вплоть до того, что начинаются такие депрессивные эпизоды, сильная апатия, высокий уровень тревожности, человек перестает кому-либо доверять. В данном случае, конечно, нужно обратиться к специалисту, если это действительно была какая-то серьезная потеря.
Вы знаете, я поделюсь, если это возможно сделать в эфире. Совершенно недавно прямо буквально у моего знакомого, скажем так, который находится сейчас на СВО, его маме написали о том, что «ваш сын в госпитале, данных никаких нет, но нужно срочно переводить большую сумму денег», на вот этом ужасе и страхе это сделала и перевела. И после этого, конечно, мама находилась в очень тяжелом психологическом состоянии, вплоть до того, что вот обращалась за психологической помощью.
Поэтому, конечно, в данном случае, если потери велики, то это травматичная ситуация и здесь, конечно, помощь психолога не исключена.
Павел Гусев: Да, пожалуйста.
Михаил Игнатов: А маме надо было просто пойти в военкомат и уточнить, что с сыном, в каком он госпитале, где он сейчас находится, все, понимаете, и вопросов бы не было никаких.
Юлия Кочетова: Все верно.
Павел Гусев: Я думаю, что вы совершенно точно говорите. Зачастую самые простые проблемы можно решить самым простым путем – пойти к источнику, там, где сидят те, кто призывал этого парня...
Юлия Кочетова: Друзья мои, поэтому я и говорю о том, что когда мошенник... Он же не позвонил с какой-то другой легендой. Понимаете, это мы сейчас с вами здесь в студии, в такой достаточно благополучной ситуации рассуждаем, что вот она должна была пойти, кто что должен. Когда мы находимся, скажем так, в ситуации, когда давят на наши болевые точки... Мошенник звонит с определенной легендой к нам не просто так, он же понимает прекрасно, что, по всей видимости, были какие-то данные у них...
Павел Гусев: Да-да.
Юлия Кочетова: Они же не делают это пальцем в небо, хотя иногда и такое случается. Тем не менее они надавили на больную точку мамы, для нее это крайне эмоциональная ситуация.
Павел Гусев: Совершенно верно.
Юлия Кочетова: Плюс она попадает в группу риска, возрастные...
Павел Гусев: Спасибо вам! Вы замечательный специалист, прекрасно разъясняете, что нужно делать и до, и после, и очень точно характеризуете состояние человека. Я думаю, что это может многим помочь. Спасибо вам за участие в нашей программе!
Юлия Кочетова: Большое вам спасибо!
Михаил Игнатов: Хотел бы вот еще такое добавить прямо конкретно. Вот говорят, что не знает человек. Задача СМИ, всех средств массовой информации сейчас, на сегодняшний день в нашей стране – это доводить до людей, что им нужно делать в случае таких-то, таких-то звонков, таких-то, таких-то событий.
Павел Гусев: Вот.
Михаил Игнатов: Чтобы все это знали, куда им идти, куда обращаться.
Еще они должны знать обязательно, все люди нашего государства, что ни одни спецслужбы, ни МВД, ни ФСБ, ни другие силовики никогда не будут вас заочно просить поучаствовать в каком-то оперативном эксперименте.
Павел Гусев: Никогда.
Михаил Игнатов: Никогда этого не произойдет.
Павел Гусев: Послушайте, уважаемые телезрители, – никогда!
Михаил Игнатов: Это все должны знать: никто не будет просить. Если вы нужны где-то, понадобились органам, или вас пригласят на беседу...
Павел Гусев: Это будет официально совершенно.
Михаил Игнатов: (Да.) ...или за вами приедут, наденут наручники и привезут туда, куда нужно. Но не будут с вас заочно ничего требовать.
Павел Гусев: Надо сказать, что люди все серьезнее относятся к звонкам с незнакомых номеров. Вот какой случай произошел с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
ВИДЕО
Вячеслав Гладков: Алло.
– Слушаю вас.
Вячеслав Гладков: Добрый вечер. А мне нужен Сергей Николаевич.
– А он на работе, Сергей Николаевич.
Вячеслав Гладков: Извините, а с кем я разговариваю?
– …
Вячеслав Гладков: Моя фамилия Гладков Вячеслав Владимирович, губернатор Белгородской области.
– Да вы что? Ну поздравляю вас, что вы Гладков.
Вячеслав Гладков: С чем?
– Что вы губернатор Белгородской области. А я музыкант и слышу, что вы не Гладков. До свидания.
Вячеслав Гладков: Спасибо.
– [гудки]
Вячеслав Гладков: К сожалению... Не знаю, с кем разговаривал из родственников Сергея Николаевича. Наверное, все-таки, судя по всему, не поверили. Жалко. С другой стороны, правильно, что люди с сомнением относятся к звонкам от незнакомых людей и перепроверяют это. Лучше перепроверить, чем потом сожалеть.
Михаил Игнатов: Вот видите! Все правильно человек сделал. А надо было что сделать? «Вы губернатор Гладков? Очень приятно, я очень рада вас слышать. Дайте ваш номер для связи, я вам сейчас перезвоню», – чтобы убедиться, что вы на самом деле губернатор или нет. Потому что когда вам звонят с телефонии, любой номер они подделают, вы обратной связи никогда не получите, никогда, т. е. там нет обратной связи.
Леонид Чуриков: Нет, если это будет работать, они найдут номер обратной связи...
Евгений Беляков: Дадут любой номер.
Михаил Игнатов: Нет, номер губернатора они никогда вам не дадут, прямой номер губернатора в кабинет ну никогда вам не дадут.
Евгений Беляков: Они как будто, как будто.
Леонид Чуриков: Да, как будто.
Евгений Беляков: Как будто будет губернатор.
Леонид Чуриков: Откуда эта женщина узнает, это прямой номер губернатора или... ?
Евгений Беляков: Да, конечно.
Леонид Чуриков: Это вы как специалист, работающий в профильных структурах, поймете, что это не может быть номером губернатора, потому что у него такой-то индекс, не может быть, а вот эта женщина вполне поверит.
Я бы сказал, что у людей должен быть такой синдром Артема Дзюбы (помните, человек, который пострадал от утечки конфиденциальных данных), и он нашел в себе силы не совершать дополнительных ошибок. Вот тот, кто попался уже, он может понять, что этот мир жесток, тебя и обсмеют, и будут троллить и т. д., но ты не должен сам совершать дополнительных ошибок.
Но проблема еще в том, что люди такие уязвимые зачастую потому, что они не чувствуют за собой какой-то поддержки. Вот они же все в стрессе, потому что они чувствуют, что чуть что, шагни не в ту сторону, не перезвони, и ты останешься со своей бедой один на один. Если мы дадим им какое-то чувство поддержки, надежды, они будут гораздо спокойнее реагировать на это, они будут перезванивать и т. д. Вот я за то, чтобы им дали...
И это не задача бизнеса, нельзя это переложить на бизнес, на банки или еще на кого-то. Видите как, у нас банки говорят: «Вот продают сим-карты, все из-за телеком-операторов, мы-то тут, на своем уровне, на банковском, сделали все что могли, а вот они недоработали». Помимо сим-карт сейчас в свободном доступе данные из банков – пожалуйста, в любом банке можно купить за определенную сумму данные о кредитах и т. д. Просто логин и пароль, может быть, и нельзя...
Павел Гусев: Что, любого человека?
Леонид Чуриков: Да, любого человека, к сожалению. И об этом банки не любят говорить, каждый из банков скажет: «Ну да, всех банков можно, но нашего нельзя».
Михаил Игнатов: У нас еще есть защита конфиденциальных данных, понимаете, это вообще-то предусмотрено законом, это уголовная ответственность, если человек будет продавать данные другого человека конфиденциальные.
Павел Гусев: Конечно. Это вообще невозможно.
Евгений Беляков: Но они уже утекли, т. е. есть факт, т. е. пока вот не выстроили вот эти все системы защиты, очень много данных уже утекло. То есть надо жить с тем фактом, что уже большое количество данных о нас есть в даркнете, где угодно и мошенники имеют к ним доступ, к этому надо быть готовым.
И здесь вот я, кстати, про критическое мышление. Вот мы говорим про некий патернализм, что государство должно сделать такой «железный купол», в который мошенники не смогут проникнуть, и, в общем, так оградить наших граждан, – не получится, это все-таки некая крайняя степень. Здесь нужны скорее и усилия государства, что делается, усилия банков, Центробанка и т. д., сотовых операторов и наше критическое мышление в том числе тоже. Без него никак.
Павел Гусев: Вы забыли одно из самых главных.
Евгений Беляков: Правоохранительные органы?
Павел Гусев: Нет, вы забыли – вы где работаете?
Евгений Беляков: Нет, СМИ – это понятно, мы информируем.
Павел Гусев: Вот, вы понимаете.
Евгений Беляков: Я пишу три раза в неделю об этом.
Павел Гусев: Вот мы с вами находимся на телевидении, «Общественное телевидение России», вы работаете в «Комсомольской правде», многие другие журналисты работают в самых разных официальных изданиях, где мы только не работаем, – мы должны с вами практически ежедневно эту информацию давать, давать, давать, рассказывать о случаях обмана, рассказывать о том, как ловят некоторых из этих мошенников, откуда они берутся, как происходит...
Вот наша сегодняшняя программа и встреча – это энциклопедия, по сути дела: мы сегодня по полочкам разложили очень многие варианты того, как людей делают нищими, глупыми, несчастными. А ведь есть и ужасные истории, люди...
Михаил Игнатов: ...кончают жизнь самоубийством, к сожалению.
Павел Гусев: Совершенно верно, к сожалению, и такие случаи есть.
Леонид Чуриков: Конечно. Мошенничество – это не только про деньги: это и про уголовные деяния, и реально про доведение до самоубийства.
Евгений Беляков: Кстати, уже дропперов, вот есть несколько историй уже, когда дропперов тоже, тех людей, которые помогают мошенникам, тоже разным способом...
Павел Гусев: Дропперы – это те, кто помогают мошенникам.
Михаил Игнатов: Дропперы – это соучастники преступления, и они должны нести уголовную ответственность.
Павел Гусев: Совершенно верно.
Михаил Игнатов: И они должны знать, что если ты стал дроппером, ты продал кому-то свою сим-карту или сдал ее в аренду, или сим-карту, или карту банковскую, на которую деньги перегоняются с карты на карту, ты становишься соучастником, ты можешь себе получить срок, реальный срок.
Павел Гусев: А почему нельзя назвать его соучастником, а обязательно надо называть дроппером?
Михаил Игнатов: Я не знаю, почему слово «дроппер», какое-то, может быть, оно новое, модное.
Павел Гусев: Понимаете, в чем дело...
Евгений Беляков: Немножко разные...
Леонид Чуриков: Вот когда человек, с карточки которого перешли деньги, он считается преступником, а банк, который перевел деньги, почему-то не хочет себя считать соучастником.
Михаил Игнатов: Нет, банк совершил банковскую операцию.
Леонид Чуриков: «Мы совершили банковскую операцию», – а человек совершил преступление. В чем разница?
Михаил Игнатов: Нет, минуточку, он совершил банковскую операцию на официальную карту, на официальный счет. Это счет не придуманный, не поддельный, а счет настоящего, реального человека.
Павел Гусев: Ну да, это не банк придумал этот счет.
Михаил Игнатов: Да. Человек пользуется картой, все, он совершает какие-то банковские трансакции, он ему перевел...
Евгений Беляков: Здесь уже определенная история есть, определенная защита. Центробанк совместно с правоохранительными органами сейчас уже создал базу дропперов, базу соучастников преступления, в ней, насколько я помню, по последним данным февральским более 200 тысяч уже реквизитов людей. То есть это не конкретные счета, а это именно люди, которые были замечены. Грубо говоря, жертва перевела деньги на определенный счет, жертва пришла в правоохранительные органы, сказала: «Я вот перевела этому человеку деньги, это был мошенник».
Леонид Чуриков: И?
Евгений Беляков: Этого человека включили в черный список.
Леонид Чуриков: Так.
Евгений Беляков: Далее следующая ситуация. Если следующий человек попытается по этому реквизиту перевести, банк должен отклонить эту процедуру.
Леонид Чуриков: Или вернуть деньги.
Евгений Беляков: Если он не отклонит эту процедуру, он потом обязан вернуть деньги.
Михаил Игнатов: Если только информация есть у банка.
Леонид Чуриков: А если вы, частное лицо, перевели деньги, то вы не просто должны вернуть эти деньги – вы должны еще нести уголовную ответственность, вот в чем разница. Поймите, бизнес отстоял свои права очень здорово, он сказал: «Ну ладно, если уж мы проколемся и из базы вот прямо мошеннику переведем эти деньги, ну вернем, вернем».
Евгений Беляков: Там немножко не такая простая ситуация...
Леонид Чуриков: А вот если ты дроппер и с твоей карточки перешли деньги куда-то, тебе скажут: «Ты сядешь в тюрьму». Банки сейчас понимают, что, наверное, их будут более брать серьезно...
Павел Гусев: Пожестче.
Леонид Чуриков: Они говорят: «Хорошо, давайте только к банку как к организации претензии не будем предъявлять – найдем какого-то сотрудника у нас, сделаем его виновным и скажем, что вот он во всем виноват, пусть он деньги возвращает и отвечает как хотите, уголовно, административно и т. д.»
Евгений Беляков: Ну просто странно банк уголовно наказывать, это как?
Павел Гусев: Это надо менять тогда Уголовный кодекс.
Евгений Беляков: Нет, просто как банк посадить в тюрьму, вот объясните мне? Это немножко странно.
Михаил Игнатов: Вы просто далеки немножко от уголовного процесса: чтобы предъявить кому-то обвинение в уголовном преступлении, нужно расписать четко и понятно, где, когда, при каких обстоятельствах человек совершил преступление, т. е. конкретику указать, что он преступного совершил. После этого человеку можно предъявлять обвинение. Здесь кому вы из сотрудников банка хотите предъявить обвинение, я не пойму?
Леонид Чуриков: Конечно, да.
Михаил Игнатов: Это все, знаете, теория, это все теоретические вопросы, которые в практике никогда не реализуются.
Павел Гусев: Я тоже так думаю.
Михаил Игнатов: А вот дроппер, который передал карточку, его вызывает следователь или опер, неважно, кто вызовет, и говорит: «Так, тебе упала на этот счет такая-то сумма – кто тебе перевел, за что и откуда?» И он тут же теряется, он говорит: «Я эту карточку сдал в аренду такому-то, я ею не пользуюсь, я получаю с этой суммы маленький процент». Все, после этого его можно считать соучастником преступления.
Павел Гусев: Совершенно верно.
Евгений Беляков: Уже есть судебные прецеденты, я вот буквально когда ехал на эфир [], 4 миллиона суд присудил, что нужно вернуть человеку, который был дроппером, потому что на его карточку как раз вот эти 4 миллиона присылались, потом он, соответственно, отправлял деньги куда-то дальше... Но теперь эти 4 миллиона он обязан вернуть жертвам, пострадавшим.
Леонид Чуриков: А почему их нельзя было в рамках национальной платежной системы остановить?
Евгений Беляков: А вот объясню сейчас. Грубо говоря, это очень большое количество карт, очень большое количество схем различных, как вовлекаются эти дропперы, и условно сейчас... Раньше если эти карточки могли работать месяцами до того, как их как-то найдут, закроют и т. д., сейчас это работает неделю-две. Но за эти неделю-две все-таки кто-то попадается.
Леонид Чуриков: Вы мне пытаетесь сейчас объяснить, что мы создали такую систему, контролировать которую мы уже не способны. Если вы не способны ее контролировать, я как безопасник вам говорю, вы не имеете права разрешать этот канал коммуникации.
Евгений Беляков: Нет, вы как-то неправильно интерпретируете мои слова.
Михаил Игнатов: Нет, вы не правы: все контролируется, все хорошо.
Леонид Чуриков: Если можете контролировать, разрешайте. Если контролируется, тогда останавливайте.
Михаил Игнатов: Я сейчас объясню вам. Вот эти карточки, они все не обезличенные, они все имеют своего хозяина, понимаете, да?
Леонид Чуриков: Да.
Михаил Игнатов: Так вот, как только эти хозяева будут привлекаться к уголовной ответственности в массовом порядке, т. е. 159-я статья, соучастник, с неустановленными людьми общался... Это если не можешь назвать, кому ты сдал в аренду ее, или он назовет какое-то еще одно звено, но дальше уже не пойдет, понимаете, мы не установим основных бенефициаров всего этого, потому что они далеко.
Павел Гусев: Совершенно верно.
Михаил Игнатов: Но как только они начнут привлекаться к ответственности, как только их будут судить и отправлять на определенные сроки наказания, это движение дропперское само по себе отпадет. Никто не хочет добровольно пойти на 3–4 года лишения свободы.
Леонид Чуриков: Слушайте, в 2018 году уже говорили, что телефонных мошенников не будет, потому что президент в 2018 году подписал поправки к закону о связи. Мы всегда верим...
Павел Гусев: Коллеги...
Евгений Беляков: Один пример можно приведу?
Павел Гусев: Очень короткий, мы уже все, время.
Евгений Беляков: Как это работает? Я сейчас писал большое расследование о том, как жертва пострадала, там был перевод дропперу (я об этом практически сразу узнал, потому что это моя знакомая). Я буквально через несколько дней попробовал перевести деньги на вот этот дропперский счет – проходил платеж. Через 10 дней после того, как было совершено преступление, я еще раз для интереса как раз попробовал перевести 10 рублей – было отклонено банком. То есть это работает.
Михаил Игнатов: Этих 10 дней хватит, чтобы перегнать большие суммы.
Евгений Беляков: Ну...
Павел Гусев: Наше время подходит к концу. Мы затронули достаточно серьезную тему, которая волнует всех без исключения граждан нашей страны. К сожалению, количество случаев, когда люди попадаются на уловки мошенников, пока растет, и очень хочется надеяться, что наша беседа поможет нашим зрителям избежать этих неприятных ситуаций.
Я благодарю моих гостей за то, что вы уделили время и пришли к нам.
В студии был главный редактор «МК» Павел Гусев. До встречи через неделю.