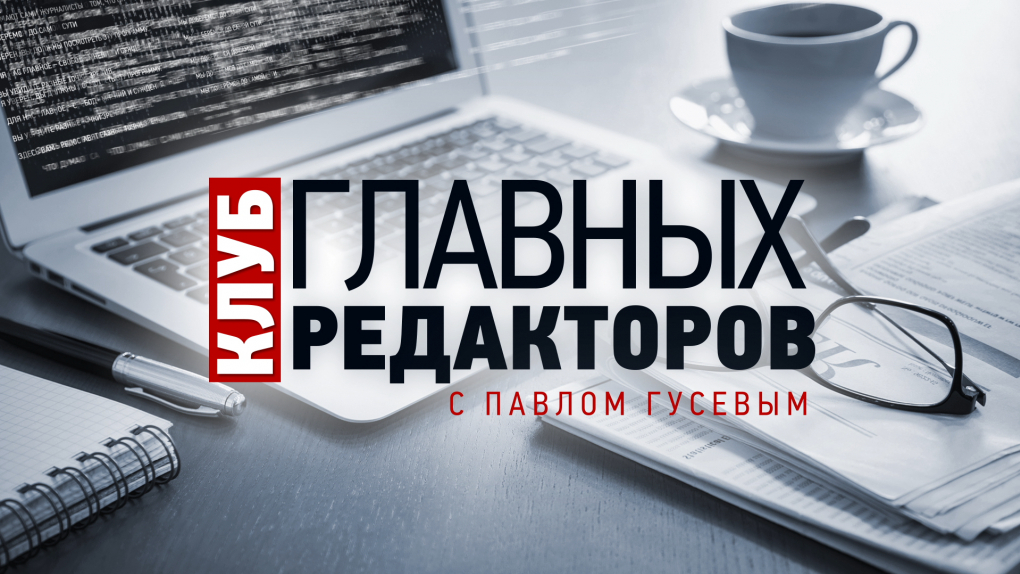Наука на экспорт
https://otr-online.ru/programmy/klub-glavnyh-redaktorov/nauka-na-eksport-90212.html 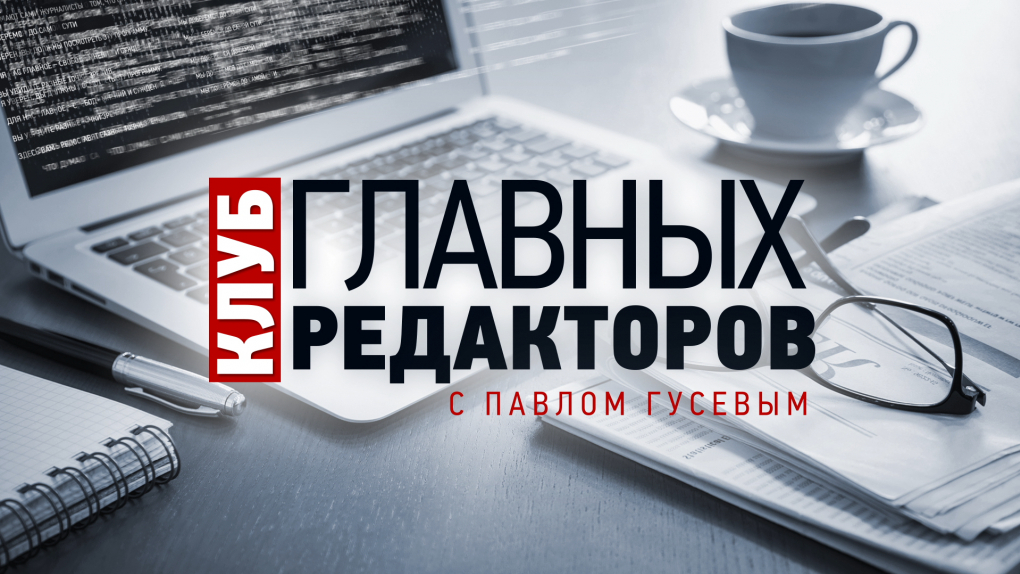
Павел Гусев: Здравствуйте! Я Павел Гусев, и это «Клуб главных редакторов».
Сегодня я хотел бы поговорить о таком явлении, которое в народе называют таким понятием, как «утечка мозгов». Эксперты опять забили тревогу: они считают, что массовый отток научных кадров из России достигает масштабов эмиграции начала 90-х гг. прошлого века. Власти же утверждают обратное – мол, идет ренессанс российской научной мысли и научного потенциала.
СЮЖЕТ
Голос за кадром: Россия теряет молодые научные кадры. По оценкам экспертов РАНХиГС, к 2035 году дефицит кандидатов и докторов наук составит более 20 тысяч специалистов. Уже сейчас количество выбывающих преподавателей с научными званиями превышает число аспирантов, которые готовятся их получить. Из аспирантуры уходит каждый второй студент, а количество вакансий на позиции научных исследователей и лаборантов значительно больше, чем размещаемых резюме.
Неожиданно обострилась и проблема утечки мозгов. Как посчитали эксперты немецкого Центра исследований в области высшего образования и научных исследований, начиная с 2022 года Россия ежегодно теряет 0,8% активных исследователей. По мнению специалистов, такие показатели не фиксировались с конца 90-х гг. прошлого века. Девяностые стали самым черным периодом для российской науки: за период с 1989-го по 2001 год страну покинули более 100 тысяч ученых, занятых в таких традиционно сильных для нашей страны областях, как математика, химия, физика, биология.
О проблеме утечки мозгов неоднократно высказывался Владимир Путин, призывая создать такие условия, чтобы высококлассные специалисты оставались на родине, а уехавшие возвращались обратно. И, как утверждает министр науки и высшего образования Валерий Фальков, ситуацию с оттоком профессиональных кадров удалось переломить. О массовом возвращении в Россию эмигрантов-ученых недавно заявил и глава Российской академии наук Геннадий Красников, и в самое ближайшее время, по его словам, отечественную науку ждет ренессанс.
Павел Гусев: Так что же творится с научным потенциалом в нашей стране? С таким вопросом я хочу обратиться к гостям, которые пришли сегодня в студию:
Сергей Салихов, первый проректор Университета науки и технологий МИСиС;
Максим Абаев, заместитель главного редактора журнала «Наука и жизнь».
Ну вот посмотрите, мы сегодня все чаще и чаще говорим о том, что существуют определенные проблемы не просто в науке, потому что наука развивается, а с кадрами. Вспомните, в начале 1990-х гг. каким потоком шли вот туда, туда, туда, в эти долины, в Соединенные Штаты, в Европу – куда только наши не разъезжались. Но я помню и другой момент: к началу 2000-х, в 2000-х стали приезжать, возвращаться. Люди почувствовали, что в России идет возрождение, и оно действительно шло, действительно появились новые научные центры, появились деньги на науку.
Вот как вы считаете, существует на сегодняшний день утечка кадров из-за того, что наука в России стала другой?
Сергей Салихов: Это хороший вопрос.
Наука в России в последние годы действительно стала другой. Произошло много событий в науке, которые коренным образом изменили то состояние, о котором вы говорили про 1990-е гг. Фактически в 2000-х гг. была построена новая система российской науки, в т. ч. ее финансирования.
Я сам участвовал в этой системе, работая в Министерстве образования и науки, и поэтому могу сказать совершенно ответственно: те изменения, которые произошли, а именно создание национальных исследовательских университетов, те изменения в структуре Российской академии наук, которые сейчас, так сказать, приняты сообществом, – все это, безусловно, изменило общий ландшафт. Появление новых объемов и масштабов проектов, связанных с финансированием науки.
И поэтому если говорить о таком слове, как «утечка мозгов», то я бы вообще предпочел изменить это слово на то, что существует обычная, разумная миграция.
Павел Гусев: «Разумная миграция»?
Сергей Салихов: Разумная миграция как в одну сторону, так и, собственно, в другую.
Я могу сказать, что вот я сам руководил почти 5 лет программой, очень известной программой, которая называется «Мегагранты». Это одна из самых известных программ в России по привлечению наших ученых, по привлечению ведущих ученых в Россию.
Павел Гусев: Российских или любых?
Сергей Салихов: Любых, любых. Программа была запущена в 2010 году, максимум ее, так сказать, популярности как раз вот пришелся на 2012–2016-е гг. И сейчас программа переживает совершенно новое перерождение, так сказать, она меняет свои параметры, и, я думаю, мы все надеемся, что все лучшие практики, которые были, они реализуются в этой программе, потому что она сейчас совершенно другая будет по своей форме и по вот этим вещам.
Ну вот можно задать такой вопрос: а каковы результаты такой программы?
Павел Гусев: Да, каковы они?
Сергей Салихов: Может быть, мы сегодня один из таких результатов увидим живьем: один из таких результатов – это известный у нас химик, физик, кристаллограф Артем Оганов, который вернулся в Россию только благодаря программе «Мегагранты» и тем инфраструктурным решениям, которые были в рамках этой программы реализованы, и т. д. Это большое количество людей, которые остались работать в России: и Станислав Смирнов, и Алексей Кавокин, известный физик из МФТИ... Это люди, которые действительно делают сейчас яркую науку.
Я могу сказать, что вот у нас в университете МИСиС все проекты, которые были реализованы по этой программе, сейчас превратились в крупномасштабные, большие, сильные лаборатории. Одна из таких лабораторий, лаборатория квантовой сверхпроводящей электроники, сейчас занимается вместе с другими нашими коллегами созданием сверхпроводящего квантового вычислителя, т. н. квантового компьютера.
Павел Гусев: Ну это уникально.
Сергей Салихов: [Занимаются разработкой] одной из многих платформ, т. е. есть компьютеры на сверхпроводниках, которыми занимаются в МИСиСе, есть компьютеры на отдельных ионах, атомах, один из самых больших успехов был в Физическом институте Академии наук, в ФИАНе, тоже наши ученые принимали участие. Это было бы невозможно без вот этой программы и без того притока, колоссального притока мозгов, если так говорить в вашей терминологии, который был, как раз пришелся на 2010–2020-е гг. Сейчас ожидается новый всплеск вот этого всего.
И вот я вам могу сказать, что за последние 2 года вот у нас в университете мы, скажем так, совершенно не ощутили оттока. Да, безусловно, были потери, о которых жалко, грустно [вспоминать], но это не сказалось никак...
Павел Гусев: Это не массовый отток.
Сергей Салихов: Это, во-первых, единичные случаи. Во-вторых, это абсолютно не сказалось на темпе, на качестве, на тематических направлениях тех научных исследований, в которых мы идем.
Павел Гусев: А ваше как мнение по этому поводу?
Максим Абаев: Тут можно вспомнить тоже такую шуточную поговорку, что наука стоит на плечах аспирантов и молодых научных сотрудников. И молодые люди, они в принципе задумываются о будущем, например, им хочется попробовать разное, поучаствовать в каких-то проектах, посмотреть вообще, например, как это происходит у других. Например, какие-то иностранные стажировки – в принципе, это всегда было абсолютно таким адекватным, нормальным процессом, когда человек, например, на несколько лет или даже на несколько месяцев едет учиться, работать, участвует в каких-то совместных проектах.
То есть такая вот циркуляция в научной среде, чем она интенсивнее, тем, собственно, лучше от этого всем. И когда она каким-то образом начинает смещаться в ту или другую сторону, т. е. какой-то ручеек начинает, скажем так, пересыхать, это, наверное, плохо.
С другой стороны, скажем так, именно если мы говорим об утечке, что человек, например, решил жить и работать не в нашей стране, а где-то за рубежом, то это хотят не все. Кто-то может поехать, но он поймет, например, что за границей ему не хочется жить дальше, т. е. там не хочется взрослеть, стареть и т. д., то есть ему, например, комфортно в своей родной стране, и он, естественно, скорее всего, вернется. А кто-то, наоборот, у него может быть мечта научная, какая-то личная, она связана с тем, что вот «я хочу уехать и заниматься там».
Павел Гусев: Наш президент подчеркивал недавно сравнительно, что цифры утечки, если так сказать, ученых кадров, специалистов составляют где-то 5–7% сейчас. Я не знаю, это много или мало в количественном соотношении, так скажем, 10 тысяч, 5 тысяч или 2 тысячи человек, но 5–7%, конечно, это не самые большие цифры, наверное, если сравнивать их особенно с 1990-ми гг.
В 1990-х гг. ведь, в начале, когда началась вся эта катавасия с научными кадрами, вообще с финансированием науки и многое другое... Так скажем, многие политические деятели тогда, которые потом возглавили неожиданно крупные научные центры и исчезли в просторах зарубежных стран теперь, – они как раз тогда сделали все, как мне кажется, для того чтобы наука оказалась на последнем месте, главным был вот этот вот зелененький доллар, который нужно было обменять скорее по курсу. Такое ведь было, что уехали очень многие.
А вот интересно: из тех, кто уехал, вернулись или нет, как вы считаете?
Сергей Салихов: Многие вернулись. Вот те фамилии, которые я называл, – это фамилии тех людей, которые действительно вернулись. И более того, я знаю... сейчас я как раз не из чувства суеверия [говорю], а чтобы, так сказать, не спугнуть удачу... что многие очень серьезные ученые сейчас рассматривают варианты возвращения в Россию. Это действительно наши соотечественники...
Павел Гусев: А их примут?
Сергей Салихов: Их примут, их ждут.
Павел Гусев: А, вот как?
Сергей Салихов: Их не просто примут – их ждут. Это наши соотечественники, это звезды мировой величины, которые действительно могут сильно повлиять в т. ч. и на вопросы технологического суверенитета, независимости и всего того, о чем мы сейчас много говорим.
Павел Гусев: К нашей беседе присоединяется Сергей Щаников, старший научный сотрудник лаборатории мемристорной наноэлектроники Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Здравствуйте.
Сергей Щаников: Добрый день, коллеги.
Голос за кадром: Сергей Щаников, кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории мемристорной наноэлектроники Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Область научных интересов – искусственный интеллект и нейроморфные системы.
Павел Гусев: Скажите, пожалуйста, вот ваше ощущение сегодняшней науки? Вы находитесь не в центре московском, вы находитесь в центре, так скажем, подальше от Москвы, но тоже очень важном и знаменитом центре. Ощущение потери кадров или ощущение того, что вы работаете в вакууме, в одиночестве?
Сергей Щаников: Несмотря на то что мы находимся не в центре, у нас очень прочные научные связи со многими университетами, это начиная от Калининграда до юга России и т. д. В принципе, мы регулярно общаемся на конференциях, видимся.
Я, честно говоря, не заметил какой-то большой проблемы, связанной с утечкой, по крайней мере единичные случаи ученых, которые уехали по разным причинам, возможно, это и не связано с какими-то текущими политическими ситуациями и т. д. Но при этом я буквально, наверное, за последние пару лет познакомился с многими ребятами, кто вернулся в рамках различных программ, тех же мегагрантов, о которых говорили, кто вернулся в Россию, занимается наукой, нашел себе место здесь.
Павел Гусев: Скажите, у вас нет программы привлечения по вашим направлениям? Потому что ваше направление достаточно такое интересное, не каждый даже сообразит, чем вы занимаетесь, так скажем: если остановить на улице и произнести вашу специализацию... Кстати, что это такое, чем вы занимаетесь?
Сергей Щаников: Ну, мемристорная электроника – это, можно сказать, такое новое слово в области искусственного интеллекта. Это то новое «железо» будущего, на котором будут запускаться нейроморфные системы, т. е. нейросети, подобные мозгу, искусственные реализации принципов работы нейронных сетей. Популярное направление, сейчас очень развивается, очень перспективное и в стране у нас на достаточно хорошем уровне показано, по крайней мере те устройства, которые создаются в стране и, в частности, у нас в университете, соответствуют всем мировым тенденциям, характеристикам и т. д.
Программа привлечения... Я говорю, «Мегагранты» здесь, наверное, была одна из основных программ, которая позволила вот создавать такие инструменты возврата в страну тех людей, кто действительно может не просто в рабочем режиме что-то решать, какие-то вопросы, а действительно привносить такие яркие импульсы, сильные импульсы, для того чтобы двигать конкретные актуальные, важные, интересные научные направления.
Павел Гусев: Ну а скажите, нам известно, и это не скрывают те же специалисты из Китая, политики Китая, что у них целая программа существует переманивания специалистов из разных стран, включая Соединенные Штаты Америки, на свои научные и не только научные, производственные центры, и китайских, и не только китайских специалистов, а тех, которые нужны. У нас такая возможна программа? Или на это нужно специальное финансирование?
Сергей Щаников: Нет, естественно, здесь нужно такое решение на уровне государства принимать. Но да, действительно, в Китае это действует: многие коллеги, кто бывают в Китае, видят очень много там профессоров из Европы, из Америки и т. д. То есть в Китае поставили цель и к этой цели идут.
Павел Гусев: Скажите, а разве мы такую цель не можем себе поставить, что вот нам нужен китайский специалист в этой, в этой и в этой сфере, ну и забрасывать туда удочки? Возможно это? У нас же сейчас китайские туристы, предположим, толпами ходят по Москве, да и по Питеру, по многим другим городам.
Сергей Щаников: Наверное, здесь надо как-то, может быть, действовать фокусно, т. е. смотреть именно конкретно те области, где у нас, возможно, не хватает компетенций, и не просто распыляться, выделяя ресурсы на то, чтобы привлекать как можно большее количество ученых, – может быть, более разумно было бы вот сфокусироваться на конкретных областях и по ним такие программы создавать.
Павел Гусев: К нашей программе присоединяется Артем Оганов, заслуженный профессор Сколтеха, член Европейской академии. Спасибо.
Ну вот мы сейчас беседуем с нашими гостями по поводу специалистов в науке и не только в науке, в тех новых, передовых технологиях. Вот как ваша позиция и мнение, сегодня уезжают больше или приезжают, обратно возвращаются?
Артем Оганов: Конкретных цифр у меня на сегодняшний день нет. Мы помним, что в 1990-е гг. массово уезжали, где-то к концу 2000-х гг. было достигнуто, как мне кажется...
Павел Гусев: Баланс?
Артем Оганов: ...некое такое равновесие: сколько-то, немножко, уезжало, но уже и приезжало... Может быть, даже приезжало больше, чем уезжало.
Я знаю, наверное, сотни людей, только я, один человек, знаю сотни людей, которые вернулись из-за границы в Россию. Кто-то защитил там диссертацию, кто-то проработал там больше или меньше лет. Я проработал 16 лет с лишним за границей, стал там профессором, от аспиранта до профессора прошел путь и вернулся. В общем, разные пути, но довольно много людей вернувшихся; я думаю, что счет идет на довольно много тысяч.
А с началом СВО довольно много людей уехало, и давайте будем честны на эту тему, в особенности молодые, но не только молодые, даже некоторые состоявшиеся ученые испугались, что, в общем...
Павел Гусев: Но сейчас возвращаются, активно возвращаются.
Артем Оганов: Да, сейчас возвращаются. Но скажу вам так же честно, что и продолжают уезжать тоже. То есть те, кто уехали, испугавшись, что здесь сейчас накроется...
Павел Гусев: Да.
Артем Оганов: До многих из них уже все дошло, что, в общем, зря они это сделали, а те, кто здесь, все еще по инерции думают: «А вот не уехать бы?» Некоторые ребята, молодые в особенности...
Павел Гусев: Скажите, пожалуйста, а вот привлечение новых молодых кадров из университетов, из учебных заведений – это происходит? Или у вас уже свободных ставок нет, чтобы найти новые места для новых ученых? Или как вы выходите из этой ситуации?
Сергей Щаников: Молодежь приходит, да. В основном, конечно, это ребята, которые действительно, по сути, родились с некоторым научным интересом, любопытством, т. е. те ребята, которые хотят работать учеными, не просто за какую-то большую зарплату и т. д., а вот им именно это интересно.
Понятно, что, например, выпускники, скажем, IT-направлений, за такие кадры очень сложно конкурировать, очень сложно, т. е. те, кто занимаются в сфере IT исследованиями, очень много студентов уходят на хорошие зарплаты в крупные IT-компании, и это не секрет, что там сложно конкурировать, допустим, университету по зарплате с молодежью. То есть остаются те ребята, кто действительно заинтересован.
Ну а так, даже несмотря на это, в принципе условия достаточно хорошие. Сейчас очень много грантов, грантов для молодежи, различных программ, которые поддерживают студенческие проекты, стартапы и т. д. То есть условия достаточно хорошие для молодежи создаются, очень много разных инструментов, для того чтобы поддерживать молодежь.
Павел Гусев: Спасибо большое за участие в нашей программе! Вы достаточно убедительно вот сейчас высказали позицию и в отношении молодых кадров, и в отношении того, что происходит у вас. Я пожелаю вам успехов, научных успехов, развития! И дай Бог, чтобы наша наука и научные кадры, те, кто работают сегодня в самых разных направлениях, достигли мировых высот и мирового уровня. Спасибо вам, спасибо за участие!
Сергей Щаников: Спасибо.
Павел Гусев: Ну вот, видите, молодежь идет в науку, пытается не просто прийти, но они приходят на места, где есть гранты. А вообще, гранты помогают на сегодняшний день? И откуда они, в каком массовом порядке для науки сегодня используются? Это или правительство, или это президентские гранты, или это, так скажем, кто-то из-за границы свои денежки переводит на эти гранты, или у нас какие-то... ? Откуда эти гранты появляются?
Сергей Салихов: Вообще, линейка грантов для молодых, как вот только что сказал коллега, очень широка. И на самом деле, действительно, если мы вот обсуждаем эту тему, то скорее мы сейчас в университетах, в научных организациях конкурируем за молодежь не с зарубежными странами, а с «Яндексом», с Mail.ru, с «Газпромом», с другими компаниями, которые действительно предлагают великолепные условия для молодых ученых, выпускников университетов, которые еще на последнем курсе, уже на этапе выполнения дипломной работы имеют рабочие места и т. д.
Тем не менее, наверное, сейчас тот редкий случай, когда молодежи действительно в науке значительно легче, чем тем, кому за 40. Вот у нас есть некие определения, что до 35 кандидат, до 39–40 доктор наук, и количество возможностей и мер поддержки крайне высоко: это стипендии президента, которые вы упомянули, это стипендии правительства. Существует ряд программ по молодежным лабораториям в Министерстве науки и высшего образования, который гарантирует через государственное задание создание молодежных лабораторий непосредственно в университетах и научных организациях.
Вот я вам говорил про то, что мы ожидаем, эта программа «Мегагранты», о которой мы сегодня много говорим, сейчас переживает новый этап: увеличивается, значимо увеличивается и сумма гранта, почти в 10 раз, это усиливаются условия контроля, делаются более серьезные инфраструктурные решения для ученых, и там же есть молодежная программа.
Но я бы хотел здесь сказать вот о чем. Все-таки, несмотря на такое обилие мер государственной поддержки, ведущая роль в привлечении молодежи в науку принадлежит все-таки научным институтам и университетам.
Павел Гусев: Но институты государственные все?
Сергей Салихов: У нас объем корпоративной науки крайне низок.
Павел Гусев: Вот.
Сергей Салихов: Это другой вопрос.
Павел Гусев: Это плохо или хорошо?
Сергей Салихов: С точки зрения прикладной науки это, наверное, не очень хорошо. С точки зрения фундаментальной науки – она должна финансироваться государством.
Павел Гусев: Финансироваться государством фундаментальная, это конечно.
Сергей Салихов: Так вот я хочу закончить эту мысль, что ведущая роль по привлечению молодых, безусловно, принадлежит университетам и научным институтам. И многие сейчас университеты, вот университет МИСиС, например: мы создаем свои собственные программы привлечения, например, молодых постдоков. Существует замечательная программа поддержки университетов «Приоритет 2030», в рамках которой можно создать различные программы по созданию условий для молодых ученых. Никакие государственные гранты не помогут, если руководство научного института, руководство университета не будет заинтересовано в том, чтобы молодые приходили в науку.
Вот я скажу одну цифру. У нас число, скажем так, процент молодых ученых вообще в университете – это 40%, это люди до 40 лет.
Павел Гусев: Сорок процентов.
Сергей Салихов: Сорок процентов – это люди до 40 лет. Это крайне высокое, в общем-то, значение.
Павел Гусев: Да, я думаю, что очень высокое.
Сергей Салихов: Да. Мы над этим много работали, т. е. это то, что не дается просто так.
Павел Гусев: То есть это как одно из направлений.
Сергей Салихов: Конечно.
Павел Гусев: Это очень важно.
Сергей Салихов: И это очень важно. Я думаю, что в тот момент, когда мы преодолеем вот это критическое количество университетов и научных организаций, которые будут действительно заинтересованы в молодых, эта ситуация, конечно, сдвинется и мы победим и «Яндекс», и всех.
Павел Гусев: А скажите, как вы думаете, у нас не очень много всяких университетов, научных этих всяких структур? Может быть, надо как-то вот что-то объединять, укрупнять и на этой базе делать, может быть, более совершенные какие-то структуры, которые бы занимались не только наукой, но и внедрением этой науки в нашу реальную жизнь?
Ведь в конечном счете наука-то... Понятно, что есть теория... Где-то там сейчас нашли планету очередную с плазмой; ну прочтешь, это интересно, а для чего она существует... Она там в 25 миллиардах [световых] лет от Земли... Это замечательная наука, просто интересно читать, рот раскрыв, но хочется жить и понимать, что наука что-то для тебя сделает реальное.
Как вы считаете, может наука сегодня что-то реальное сделать для людей?
Артем Оганов: Может и делает.
Знаете, когда у меня спрашивают, зачем нужна наука, я задаю простой вопрос: можете ли вы себе представить жизнь человека, из которой убрано все то, что сделано наукой? Не будет ни бетона, ни зданий этих; не будет нашей одежды, не будет лекарств, не будет этого стекла – не будет ничего. Мы будем как обезьянки голые стоять на голой земле, в пещере будем жить – вот и все, что у нас будет, и не факт, что сможем даже зажигать огонь.
Максим Абаев: Научимся.
Артем Оганов: Вот, собственно, что такое жизнь человека без науки. Все, что у нас есть, что отличает нас от животных, практически все, – это есть результат науки. И выплавка металлов – это результат научных прорывов в бронзовом, а потом в железном веке, ну и так далее. И наука продолжает менять жизнь человека.
Но требовать от науки, чтобы она была строго заточена под решение практических задач, не мудро, потому что когда вы... Как вам сказать... Это вот как синица и журавль.
Павел Гусев: Ну да.
Артем Оганов: Синица в руках или журавль в небе. Вы не можете все поставить на кон ради выполнения каких-то прагматических краткосрочных задач, потому что очень быстро вы придете в тупик. Фундаментальная наука – это как тот журавль в небе, который, казалось бы, вы его никогда не потрогаете, но на самом деле рано или поздно он превратится в синицу, только еще более крупную, еще более жирную. Любая фундаментальная наука рано или поздно становится прикладной, если это хорошая наука.
Павел Гусев: Прикладной.
Артем Оганов: Рано или поздно она дает пользу практическую.
Сергей Салихов: Я хотел бы добавить Артема, два занимательных таких факта, то, что действительно сейчас поменяло жизнь каждого человека, – это интернет и Wi-Fi.
Артем Оганов: И виагра.
Сергей Салихов: Ну, знаете, кому что нужно.
Интернет и Wi-Fi. Но Wi-Fi был изобретен в рамках астрономического эксперимента по исследованию радиоизлучений далеких звезд, в Австралии был, кстати, эксперимент.
Павел Гусев: Удивительно!
Сергей Салихов: А интернет, это широко известный факт, был изобретен в рамках экспериментов в ЦЕРНе на коллайдере при попытках связать несколько компьютеров для обработки данных с ядерных экспериментов. Это вот, казалось бы, такая вот яркая история. Я уже молчу о великих вещах, таких как космический проект, атомный проект...
Павел Гусев: Ну да.
Сергей Салихов: Мы пользуемся. Вот вы идете в больницу, и практически все методы диагностики – это результаты атомного проекта.
Павел Гусев: Ну понятно.
Максим Абаев: Тоже ремарка на тему, что может дать наука, но немного с другой стороны: а что может дать наука, собственно, человеку, который хочет заниматься этой наукой? Сейчас тоже я слышал такое мнение, что дети, студенты, школьники мыслят более прагматично. То есть если раньше это была некая более такая романтизированная область, что «вот я стану ученым, буду открывать какие-то далекие звезды», то сейчас уже люди задают вопрос «что может дать наука именно мне, если я туда приду?», т. е. какой будет уровень зарплат, какие будут перспективы, вообще, «нужна ли будет обществу моя какая-то работа». И это тоже перетекает в еще один такой вопрос, связанный с утечкой: утечка бывает не только за границу, а утечка бывает еще и из специальности.
Павел Гусев: Вот это интересно.
Максим Абаев: И как раз те, кому сейчас 30–40, много людей утекло именно из какой-то фундаментальной науки, когда в институте зарплата была, не знаю, 20 тысяч, а если ты уходишь в коммерцию, у тебя сразу 100. И это очень сложное искушение, а иногда просто еще и вопрос жизни для многих.
Павел Гусев: Понятно.
Максим Абаев: А если они ушли из науки, зайти обратно уже очень-очень сложно.
Павел Гусев: Уже трудно достаточно.
Скажите, ну вот мы же тоже пытались создать некую, так сказать, модель в свое время, где наука совмещена и совмещается с реальной жизнью, с практикой и вообще со всеми чудесами. Было создано в свое время, несколько десятилетий назад, «Сколково». Как все вокруг этого проекта прыгали! Строились новые здания, построили гольф-поле прямо в «Сколково», чтобы американцы, европейцы приезжали, значит, и им не было скучно по вечерам или в субботу-воскресенье, могли в гольф поиграть. Построили невероятной красоты вот этот вот район вокруг... И что?
Артем Оганов: Поскольку я работаю в Сколковском институте науки и технологий...
Павел Гусев: Я к этому и веду.
Артем Оганов: Позвольте, я вначале вас поправлю.
Павел Гусев: Да.
Артем Оганов: Гольф-клуб «Сколково» не имеет ни малейшего отношения к инновационному центру, вообще никакого, ноль. Там есть еще Московская школа управления, кстати, очень интересный корпоративный университет, и тоже не имеет к нам никакого отношения, по соседству. Это как, знаете, какое отношение имеет Московский государственный университет к Московскому цирку? Они просто оба в Москве.
Павел Гусев: Я не смогу с вами согласиться, потому что я гольфист.
Артем Оганов: А я – нет.
Павел Гусев: Я знаю, как создавался этот гольф-клуб, потому что тогда тот, кто финансировал, участвовал в финансировании «Сколково», его убедили, что гольф-поле рядом со «Сколково» будет определенным привлечением. Я не говорю, что это принадлежит «Сколково».
Артем Оганов: Вы знаете, я не знаю ни одного человека в «Сколково», который ходит в гольф-клуб. Более того, он находится за воротами нашего инновационного центра.
Павел Гусев: Да, я знаю, за воротами.
Артем Оганов: Стройка продолжается, там до сих пор много чего построили, прекрасное общежитие для студентов, технопарк прекрасный, Сколтеха само здание, здания разных компаний.
Компании, которые прописаны в «Сколково», дали год назад, показали выручку сколько? – 700 миллиардов рублей, если не ошибаюсь.
Павел Гусев: Это неплохо.
Артем Оганов: Вы спрашиваете, какая польза, – вот такая польза. (Цифру надо проверить, я не держу все это в голове, но, по-моему, 700 миллиардов рублей.)
В Сколковском институте, где я работаю, у нас 1,5 тысячи магистрантов и аспирантов, несколько сот научных сотрудников и полторы сотни профессоров, которых мы со всего мира перетянули. Вот я был профессором в Америке, переехал сюда, стал профессором в Сколтехе. И я могу вам сказать, что из тех университетов, в которых я работал (а я работал в лучших университетах мира), этот – лучший. То есть Сколтех – лучшее место работы, которое когда-либо я видел в своей жизни.
Павел Гусев: Россия вообще лучшая страна в мире!
Артем Оганов: Россия – лучшая страна в мире.
Павел Гусев: Давайте прямо так скажем, чего уж тут мы будем [лукавить].
Артем Оганов: И вот смотрите, там наши профессора, наши студенты создают стартапы, на этой базе стартапов обкатываются новые технологии, создаются какие-то производства. Вот сейчас, например, создается производство по технологии литий-ионных аккумуляторов, созданное нашими профессорами Абакумовым и Антиповым, ну и так далее. Польза есть.
И самое интересное, что то, что вы видите сейчас, оно является несоразмерно малой долей того, что дается как бы на большом пробеге. Вот приведу вам пример. В XVIII веке Российская империя привлекала ученых из-за границы.
Павел Гусев: Да, было такое.
Артем Оганов: Взяли такого замечательного швейцарца Леонарда Эйлера, молодой пацан, который получил пост академика в Петербургской академии наук, вдумайтесь только, по физиологии, а вообще-то он был математиком. (Быстро потом его перевели на математику, но тем не менее такой курьезный факт.) Леонард Эйлер, казалось бы, один человек, но за этим одним молодым пацаном, которого тогда привлекли, последовала вся великая математическая школа России. Вот откуда корни идут, понимаете?
Вот то, что есть сейчас, – это уже хорошо, но последствия очень трудно просчитать, они аукнутся очень-очень большими делами в будущем.
Павел Гусев: Но можно сравнивать вот эту американскую долину знаменитую со «Сколково» сейчас по результативности?
Артем Оганов: Они разные.
Павел Гусев: Или не надо сравнивать?
Артем Оганов: Их не надо сравнивать – они абсолютно разные, разные по генезису... Я знаю, что наши хотели реплицировать модель [Силиконовой долины]...
Павел Гусев: Да, я и говорю, что это хотели.
Артем Оганов: Получилось или нет, не знаю. Получилось что-то другое, и не факт, что получилось хуже, и не факт, что получилось лучше, – получилось что-то свое.
Павел Гусев: Российское.
Артем Оганов: Российское. Но можно ли сделать лучше? Всегда можно сделать лучше.
Павел Гусев: Ну конечно.
Максим Абаев: А нужно ли делать еще один Сколтех, Сколтех-2, например? И что в нем можно было бы изменить?
Артем Оганов: Вы знаете, я думаю, что нужно, чтобы было много разных университетов. Вот есть классические университеты типа МГУ, СПбГУ, есть технические или технологические университеты, как МИСиС или как Сколтех, скажем, технологический университет нового уклада...
Павел Гусев: А есть Бауманский институт.
Артем Оганов: Есть Бауманский, тоже технологический университет. Есть гуманитарные университеты: гуманитарный социальный университет, или как он там называется, или еще какие-то разные, историко-архивный, или как он там сейчас называется... Медицинские есть университеты. Нужны университеты разных типов, разные по профилю и разные по своей философии.
Павел Гусев: Ну да.
Артем Оганов: И нужен ли еще один Сколтех? Может быть, нужен. А может быть, нужно что-то еще, но что-то еще абсолютно современное и конкурентоспособное. Вот сейчас создается университет в «Сириусе» – ну здорово, у нас будет конкурент, я этому очень рад.
Павел Гусев: К нашей беседе присоединяется Александр Осадчиев, океанолог, доктор физико-математических наук. Добрый день.
Александр Осадчиев: Здравствуйте, Павел Николаевич.
Голос за кадром: Александр Осадчиев, океанолог, доктор физико-математических наук. Лауреат премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год. Участник более 35 морских и прибрежных экспедиций, научный руководитель программы «Плавучий университет МФТИ – ИО РАН».
Павел Гусев: Что вы скажете про современную науку? И сколько молодых, талантливых людей убегают, или это называется утечкой мозгов, кадров? Может быть, такой проблемы вообще нет, наоборот, прибегают и пытаются быть с вами? Пожалуйста.
Александр Осадчиев: Спасибо.
Вопрос, конечно, многогранный. Это очень сильно зависит от сферы, в которой работают ученые. В разных сферах есть разные ситуации с оттоком мозгов за границу. Я могу сказать, что я в университете занимался математикой и среди моих однокурсников гораздо большее число людей уехало за границу, но, так скажем, не по научной линии скорее, а по линии [программирования], потому что вот эта работа программистом легко переносится из одной страны в другую, она такая очень международная, нет проблем с языком, все пишут код на каких-то компьютерных языках, и это везде воспринимается единым образом.
Но сейчас я работаю, собственно, я состоялся как ученый в океанологии... Ну, не состоялся как ученый: я вот математикой после университета не занимался, а стал заниматься океанологией, 15 лет ею занимаюсь, физической океанологией, это, конечно, близко к математике – это физика моря, это тоже такое физматнаправление... Но тут совершенно другая ситуация, тут оттока мозгов практически нет, я могу сказать.
Павел Гусев: То есть вы этого не ощущаете, оттока мозгов, того, что ребята куда-то уезжают?
Александр Осадчиев: Да. В организации, где я работаю, это Институт океанологии РАН и МФТИ, практически никто не уезжает за границу именно по науке, по океанологии. Кто-то уезжает, но не то чтобы самые сильные хотят уехать. Есть люди, которые возвращаются, т. е. есть примеры успешных молодых ученых моего возраста и помладше, которые уехали, поучились, поработали и вернулись.
И в этом плане тут, может быть, океанология не так... Может быть, она, с одной стороны, очень хорошо развита в России, потому что у России много океанов, в России всегда было особое внимание к океанологии, очень много связано с океанологией из вопросов безопасности, освоения ресурсов рыбных и геологических, поэтому в России океанология всегда как-то поддерживалась на государственном уровне – может быть, с этим связано.
Может быть, связано с тем, что океанология, так сказать, привязана к конкретному региону. Если вы занимаетесь, например, Арктикой, то вы не можете уехать, не знаю, в другую страну и продолжить заниматься Арктикой, потому что в России у вас есть приоритетный доступ к российской Арктике, в частности.
Павел Гусев: Ну да, конечно-конечно.
Скажите, а вот подготовка кадров и специалистов в этой области, где вы работаете, осуществляется одним-двумя учебными заведениями, или потом уже перестраиваются из разных специальностей в ту сферу, где вы работаете?
Александр Осадчиев: Скорее второе, потому что океанология до сих пор в какой-то форме осталась как естествознание, т. е. там все обо всем в океане, и вот это разделение естествознания на математику, физику, географию, геологию, астрономию, метеорологию в океанологии, так скажем, еще не очень сильно произошло. Институт океанологии, в котором я работаю, в частности, в нем есть физическое направление, биологическое и геологическое, три вот основных, сильных направления.
И с очень разных сторон приходят люди, из очень разных вузов поступают к нам выпускники. И вот есть, скажем, большой пул биологических факультетов, в основном это в университетах, Дальневосточный, Московский, Санкт-Петербургский; есть пул физмат- опять же в Москве, в Петербурге, в Калининграде, в Ростове, в Мурманске; есть пул биологических, геологических университетов.
Соответственно, я сам вот пришел из математики, это совершенно не было для меня моей специальностью, но вот океанология настолько широка, она как-то вот имеет в себе дух естествознания, что приходят с очень разных мест. И в этом плане это гораздо легче, чем когда есть одно, два или три места, которые питают тот или иной институт: тут диверсификация, в общем-то, гораздо более простая.
Павел Гусев: Ну да.
А как вы считаете, школьников можно заинтересовать именно тем, чем вы занимаетесь и занимается вот эта часть науки? Или это все-таки достаточно узкоспециализированное направление?
Александр Осадчиев: Океанология, слава богу, очень приятна глазу и пониманию, сознанию человека, и у океанологии есть такой флер романтизма, связанный с морскими экспедициями, связанный с красотой океана, с какой-то его размеренностью, спокойствием. И очень много людей приходят в океанологию, потому что они хотят работать в море, они хотят ходить в экспедиции или им просто приятен океан.
И я могу сказать, что среди моих коллег людей, которые носят, например, футболки с китами или с кораблями, гораздо больше, чем в среднем этих людей ходит по улицам. И поэтому в океанологию достаточно легко поначалу привлекать и школьников, и студентов.
И я в последние годы активно участвую в программе «Плавучий университет», которая работает и со школьниками, и со студентами. Идея такая, что люди с очень разным бэкграундом, естественно-научным или математическим, физматбэкграундом или биологическим, приходят в эту программу из разных вузов, в т. ч. вообще никак не связанных с океанологией, из регионов, которые не граничат с океаном или не имеют практики каких-то организаций, которые занимаются океаном. Они просто из любви к океану, к морю, к этой идее приходят в эту программу, и многие из них переходят в океанологию, остаются в науке, защищают диссертации.
Павел Гусев: Это интересно.
Я открою секрет, почему я спросил про школьников. Вы знаете, я тут участвовал в одной телевизионной передаче, такая семейная была передача, и там участвовала моя 13-летняя дочь. И когда ее спросили, кем она хочет быть, как вы думаете, что она ответила? Аж телевизионные камеры вот так все выглянули, чтобы на нее посмотреть. Она сказала: «Я хочу быть океанологом». Я не шучу, это действительно так, ей 13 лет.
Я говорю: как это так получилось? В семье никого нет океанологов, а она хочет стать океанологом. То есть, понимаете, эта профессия привлекает людей молодых, смолоду тем не менее, понимаете. Вы перешли с одной специальности, специализации и нашли свое место там. Я думаю, что это очень занимательная наука и вообще очень благородное дело, потому что нас окружают со всех сторон не только океаны – это природа, это создание нашего будущего. Правильно?
Александр Осадчиев: Да, в этом есть отдельная прелесть: познавать природу, познавать мир вокруг нас. Но со своей стороны я хочу сказать в продолжение вашей истории. Во-первых, с удовольствием приглашаем вашу дочку в школьную часть «Плавучего университета», мне кажется, ее возраст уже подходит. А во-вторых, это высшее признание популяризации океанологии, когда дети так говорят.
Павел Гусев: Пожалуйста.
Максим Абаев: У меня как раз про популяризацию тоже комментарий. Сейчас и в предыдущие максимум 10 лет некоторый такой ренессанс популяризации [имеет место], потому что этим делом начали заниматься именно сами ученые, которые сами хотят рассказать о своей науке, и они получили для этого инструменты. То есть достаточно завести блог, какое-то время что-то интересное рассказывать, и ты уже влияешь на собственно школьников. Поэтому вот этот эффект последних лет на выбор специальности, в т. ч. как можно узнать об океанологии? – вот посмотреть на интересные программы, интересные блоги. И спустя, не знаю... Может быть, придется ждать десятилетия, когда это сработает.
Павел Гусев: А вот здесь мои гости – вы популяризацией науки занимаетесь или нет? Вот скажите честно.
Сергей Салихов: Вы знаете, я хотел бы ответить на этот вопрос, потому что основы популяризации, основы той системы по популяризации науки как раз были заложены в 2012–2016-х гг. Были созданы первые научно-популярные проекты, такие как «ТАСС Чердак», который сейчас превратился в «ТАСС Науку», проекты «Индикатор». Были даны новые импульсы Фестивалю науки, которые делает Московский университет.
Была создана премия для как раз популяризаторов науки тогда как раз, «За верность науке» она называлась. Мы долго думали, как нам что-то сделать для ученых, потому что вроде бы есть Нобелевская премия, еще что-то, и поэтому как оценивать ученых есть как бы институты разные, а вот как раз премию для популяризации тогда создали.
Но я хотел бы сказать. Если вы не знаете, то вот из здесь стоящих мы с Артемом разные, но пишем детские книжки. Вот у меня, например, вышла книжка с ректором МФТИ Дмитрием Ливановым...
Павел Гусев: Потрясающе!
Сергей Салихов: ...у Артема вышла своя собственная книга про химию.
Павел Гусев: Потрясающе!
Сергей Салихов: Поэтому просто, мне кажется, когда ты любишь науку, ты пытаешься в нее вовлечь максимальное количество людей, детей, и каждый вовлеченный, каждый смотрящий на тебя является тебе некой такой, знаете, звездочкой, которая тебя греет и позволяет тебе идти вперед.
Павел Гусев: Ну а отклик есть, вот то, что книжки издаются, то, что встречи проходят? Есть ли отклик, так скажем, у гражданского общества?
Максим Абаев: Очень много ученых, с которыми мы общались, они говорят, что в детстве они всегда читали журнал «Наука и жизнь», т. е. отклик есть.
Павел Гусев: Было такое.
Максим Абаев: Но через десятилетия можно об этом говорить.
Павел Гусев: Скажите уже в завершение еще раз: какие-то молодежные структуры или, так скажем, не внутри вашего научного сообщества, а где-то в стороне [существуют]? Вы читаете лекции или, может быть, пишете статьи или что? Чтобы вот показать всю значимость того, что вы делаете, популяризация.
Александр Осадчиев: Да, вы знаете, я тоже пишу книжку.
Павел Гусев: О! Как хорошо!
Александр Осадчиев: Вот в эти дни я провожу финальную редактуру. И меня очень часто на лекциях, на каких-то интервью спрашивают: «Посоветуйте какую-нибудь научно-популярную книжку по океанологии». Вот по морской биологии действительно есть замечательные книжки, а вот по океанологии, которая сочетает в себе и физику моря, и геологию, и вообще такой вот широкий взгляд на океан, я всегда говорил: «Книжек таких нет». И в какой-то момент я подумал: надо написать, значит, самому.
Павел Гусев: Вот, молодец!
Александр Осадчиев: И вот примерно год я ее пишу, она уже близка к концу, и я надеюсь, что она вызовет отклик.
Павел Гусев: Замечательно!
Александр Осадчиев: А так по поводу отклика – конечно, он отсроченный, но мы в науке привыкли к отсроченным результатам, поэтому мы, так сказать, нормально к этому относимся. А кроме того, мы это делаем, потому что нам это нравится, и результат, конечно, придет.
Павел Гусев: Отлично! Я по первой профессии геолог, и я безумно люблю эту профессию и все, что с ней связано, и людей, потому что геологи – это самые удивительные люди, самые, на мой взгляд, открытые, порядочные и все остальное.
Спасибо вам за участие, за то, что вы с нами побеседовали, рассказали, это очень здорово! Спасибо вам большое!
Александр Осадчиев: Большое спасибо, что позвали!
Павел Гусев: Ну что, вот так работают молодые ребята, смотрите, и в науке, и в конкретных делах. И когда сейчас некоторые паникеры, может быть даже, говорят, что вот, значит, не хватает поездов и самолетов для тех, кто бежит из России, – вранье, я считаю, что полное вранье.
Действительно, кто-то уезжает, но уезжают для чего? Кто-то едет учиться – а почему нет, почему не совершенствовать какие-то свои знания? Кто-то едет и работать в какие-то компании, затем возвращается и начинает здесь работать. Вы там говорили по поводу испугавшихся, полупредателей, по-всякому [их называют] – такие тоже есть, но их мало: если в общей массе, это единицы процентов. Бог с ними, они тоже возвращаются, они все возвращаются и вернутся.
Дело в том, что мне кажется, что вот здесь очень важно... вот я бы хотел, чтобы вы тоже мне и нашим зрителям помогли разобраться... не путать: уехал за границу учиться или работать и что сбежал человек. Многие едут, для того чтобы получить дополнительный круг знаний, тех, которые, может быть, мы не до конца где-то что-то увидели, другая школа, понять эту школу, увидеть эти научные новые тенденции какие-то. И я считаю, что, конечно, что-то помогает, ведь есть научные конференции, всякие симпозиумы, встречи, но есть и просто изучение.
Поэтому когда сейчас наш президент, вот я уже повторюсь, говорит, что это где-то 5–7% уезжает, это в конечном счете, так скажем, копейки по сравнению с тем, что происходит здесь. Вот мы видим молодого парня, который сегодня участвовал в нашей беседе, его заинтересованность.
Ну а какие перспективы, вот скажите мне и нашим телезрителям, пожалуйста, у молодого человека, сегодня входящего в науку? Есть ли у него перспективы стать академиком?
Артем Оганов: Хм...
Павел Гусев: Вот тут такой вопрос.
Артем Оганов: А вот вопрос – зачем?
Павел Гусев: Тоже хороший ответ.
Артем Оганов: Смотрите, есть разные вещи. Если вы спрашиваете вообще про перспективы, перспектива для ученого в России огромная. Это не значит, что нам не над чем работать, есть что усовершенствовать. Надо, чтобы было много мест с интересной работой, чтобы было много проектов, чтобы компании были заинтересованы в том, чтобы ученые решали их задачи, чтобы правительство было заинтересовано в том, чтобы наука теплилась не только в столичных регионах, но много-много-много где еще и чтобы у молодых была возможность сделать быструю карьеру, быстрые социальные лифты, минуя вот это вот старение до 99 лет.
Павел Гусев: Да-да-да.
Артем Оганов: Это очень важно, и мы к этому идем, на самом деле уже очень многое сделано. Это одна сторона вопроса.
Вторая сторона вопроса, можно ли стать богатым в российской науке. У нас очень большой разброс зарплат. Можно. Не факт, что надо становиться богатым, – надо, чтобы был достойный уровень жизни у ученых, вот это очень-очень важно.
Павел Гусев: Вот, уровень жизни, правильно.
Артем Оганов: Третье: можно ли получить титул академика или можно ли получить место министра или кого-то там в правительстве? Можно, можно; если грамотно этим заниматься, можно. Но вот это может быть не для каждого. Вот я, кстати, баллотировался и в этом году, и до того, и до того – меня три раза «прокатили» в Российской академии наук, и я об этом говорю с удовольствием.
Павел Гусев: Есть чем еще заниматься в жизни дальше.
Артем Оганов: Абсолютно. У меня прекрасная, интересная работа, много интересных проектов, потрясающие ученики, и бирюлек у меня тоже много: я стал членом Европейской академии, в которой 80 нобелевских лауреатов состояло еще 8 лет назад...
Павел Гусев: Да, это...
Артем Оганов: Но я думаю, что, если очень захочу, стану и членом Российской академии наук. Но, понимаете, важно ставить правильные приоритеты. Важно ли становиться членом Российской академии наук? Важно. Важно ли становиться богатым? Важно. Но еще важнее стать великим ученым.
Павел Гусев: Как ваша позиция по этому вопросу?
Сергей Салихов: Вы знаете, я думаю, что перспектив для молодых сейчас действительно очень много, мы об этом сегодня много говорили. Но мне хочется отметить два момента скорее даже не перспектив, а...
Все-таки наука – это такая самоорганизующаяся сфера человеческой деятельности, и ключевым фактором вот такой организации науки является ее открытость. То есть критерием правильности, верности научных теорий является их публичное обсуждение, и этому способствуют во многом в т. ч. и научные конференции различные, которых сейчас в России проводится масса.
Я, как это сейчас модно говорить, хотел бы закольцевать эту историю, потому что мы с вами начали разговаривать о программе мегагрантов, которая привлекла в Россию огромное количество людей: по-моему, 350 или 340 с чем-то, 350 лабораторий было создано по этой программе, и она будет продолжаться, еще будут создаваться.
И вот как одно из таких ответвлений программы в свое время, это сейчас продолжается, в прошлом году это было в Самаре, в позапрошлом году это было в Орле, проводится уникальное мероприятие – это научная конференция для молодых. Сначала это была камерная научная конференция для молодых, которые участвовали в проектах, «мегагрантников», а сейчас это мероприятие всероссийского масштаба. И вот, например, в качестве перспективы поехать на такую конференцию и выступить перед такими учеными, как Оганов, Кавокин, Станислав Смирнов, – это, мне кажется, для молодого человека самая большая перспектива.
Павел Гусев: Так это...
Сергей Салихов: Потому что что может быть для тебя лучше?
Павел Гусев: Это другой уровень его и науки, и жизни.
Сергей Салихов: Да. Эта конференция ежегодная, она и в этом году состоится, поэтому это очень важно, что такие мероприятия существуют.
Наконец, все-таки мне кажется, что каждый школьник, о которых мы сегодня говорили, те, которые прочитали или не прочитали книги, которые читали журнал «Наука и жизнь» или какие-то другие журналы, порталы и пр., – сейчас они находятся в очень важном состоянии: находятся перед выбором тех высших учебных заведений, университетов, академий, куда они хотели бы поступить, где они хотели бы провести дальнейшие годы жизни. И вот эта перспектива у них тоже есть, и у нас действительно сейчас лучшие университеты...
Павел Гусев: Да, я согласен полностью с вами.
Сергей Салихов: ...которые готовят очень качественных, хороших, высококлассных специалистов.
Павел Гусев: Феноменальных!
Сергей Салихов: И это ли не перспектива для тех молодых, о ком мы сегодня говорим?
Павел Гусев: Максим?
Максим Абаев: Наука – это всегда обмен информацией, т. е. чем меньше в ней будет каких-то ограничений, препятствий и т. д., тем лучше будет науке.
И что касается молодых, то молодым людям в принципе свойственно и ошибаться, и пробовать новое и разное, и хорошо, когда есть возможность, скажем так, найти себя. То есть не идти по ровной дороге, институт – аспирантура – кафедра и все, ты навсегда тут, а чтобы была возможность не то что исправить свои ошибки, а найти какое-то свое призвание, оставаясь в т. ч. в рамках науки, т. е. чтобы не было: или наука, или курьером в доставке.
Сергей Салихов: Да.
Павел Гусев: Спасибо большое! Наша программа заканчивается, и я хотел бы сказать следующее.
Есть такая поговорка: рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Так оно всегда и было, есть и будет. Любой человек, а уж тем более тот, кто занимается творчеством (а наука – это в первую очередь творчество), всегда будет искать возможность воплотить свои мечты в реальность и пойдет туда, где ему представят наилучшие для него условия. Это банальная истина, но ее почему-то никак не хотят усвоить наши власть предержащие. А ведь то, что ученые, и в первую очередь молодые, уезжают в другие страны, – это вина именно властей. Государство в их лице должно сделать так, чтобы они оставались в родных пенатах.
Но ведь было же, было, достаточно вспомнить историю государства Российского: не дала бы Екатерина I денег Михаилу Васильевичу Ломоносову, не появился бы у нас в стране университет. Другой вопрос, что Ломоносов хотел, чтобы такое учебное заведение открылось именно в России, потому что он любил и гордился своей страной. И именно эти чувства являются основой, и их так сегодня не хватает нашему молодому поколению. Но я надеюсь, что ситуация все-таки поменяется.
Я благодарю моих гостей. В студии был главный редактор «МК» Павел Гусев. До встречи через неделю.