Обратная сторона демократии
Обратная сторона демократии
https://otr-online.ru/programmy/klub-glavnyh-redaktorov/obratnaya-storona-demokratii-77687.html 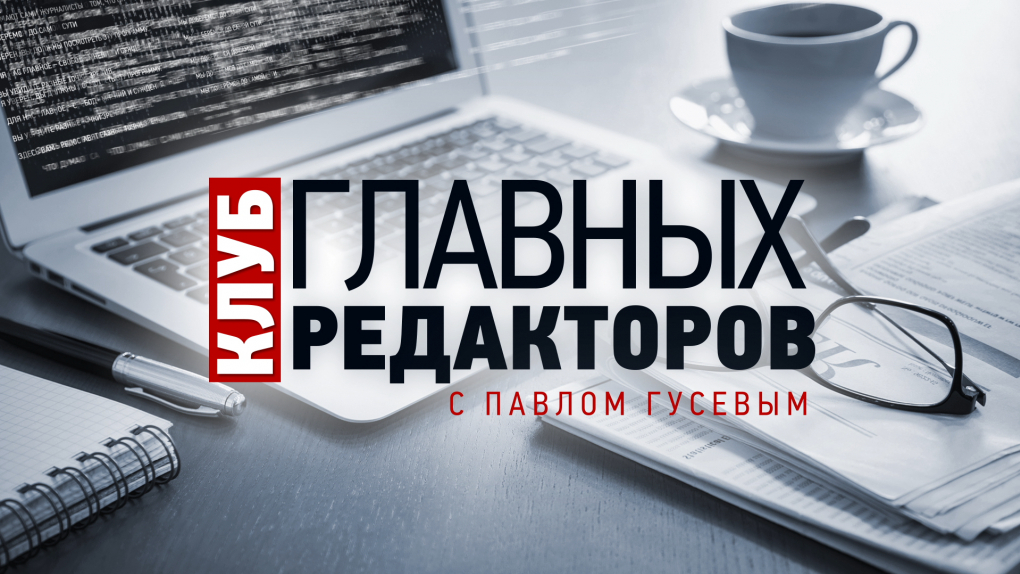
Павел Гусев: Здравствуйте! Я Павел Гусев, и это «Клуб главных редакторов».
«Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать», – этой фразой, приписывают ее Вольтеру, козыряют либералы во всем мире. А что на деле? Запрет на вещание нескольких российских СМИ на Западе; покушение на жизнь или угрозы в адрес консервативных политиков, которых кто-то считает пророссийскими; нескрываемая радость после гибели представителей неугодных режимов. Какое-то агрессивное лицо у либерализма, не находите? Давайте об этом поговорим и о том, кто, как и почему прикрывается либеральными, демократическими ценностями.
У меня в гостях:
главный редактор журнала «Современная Европа», доктор политических наук, замдиректора Института Европы Российской академии наук Роман Лункин;
политолог Игорь Шатров, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития;
и Олег Ефремов, доцент философского факультета МГУ.
Так что же не так с западными либералами? Почему люди, провозглашающие демократию превыше всего, стреляют в политиков и затыкают рот неугодным? Пожалуйста, давайте.
Олег Ефремов: Павел Николаевич, здесь прежде всего надо помнить о том, что то, что сегодня в Европе и в Америке, – это уже не либерализм, это уже ультралиберализм, который давным-давно не только отошел от принципов классического либерализма, но и радикально их извратил, превратив в свою противоположность.
Давайте вспомним. Либерализм выступал за свободу – свобода превратилась в произвол. Либерализм выступал за равенство – равенство оборачивается парадоксом меньшинств, когда некоторые в силу якобы прежней ущемленности равнее, чем другие. Та самая пресловутая демократия превратилась в диктатуру маргиналов. Индивид превратился в номада, в некоего кочевника без определенной идентичности, с разрушенной личностью, куда ветер дунет, открытый для манипуляций. Где здесь либерализм?
Вспомним замечательную фразу очаровательнейшей Анналены Бербок, когда она сказала, что «я буду помогать Украине, и меня не волнует мнение немецких избирателей». Демократический лидер.
Павел Гусев: Это колоссальный идиотизм и вранье.
Олег Ефремов: Где здесь демократия? Где либерализм?
Павел Гусев: Скажите, но почему это происходит? Вот что? Вроде бы огромная площадка, по-разному развиваются страны, с разными интересами; казалось бы, либерализм и все, что с ним связано, процветать должно, а здесь вдруг, неожиданно вот все эти явления, которые вызывают смех иногда, удивление, а иногда просто разводишь руками и думаешь: ну это что, сумасшедший дом, что ли?
Игорь Шатров: Ну, неожиданно ли, в этом вопрос.
Дело в том, что демократия, либеральная демократия и вообще все «-измы», которые нам Запад предлагал в качестве каких-то нарративов, – ведь, по большому счету, они использовались как инструменты, для того чтобы решить определенные вопросы в определенный период времени. Например, в 1990-е гг. нам напоминали о том, что мы – европейцы, вернее, не напоминали, а настойчиво говорили о том, что мы европейцы и поэтому мы должны следовать неким европейским ценностям. По идее, мы теперь-то понимаем, о чем шла речь тогда, мы тогда до конца в этом не разбирались: мы должны были отказаться от своих ценностей.
Павел Гусев: Да.
Игорь Шатров: И все, согласиться с европейскими, которые на тот момент были немножко даже, знаете, так, под сукно запрятаны. Вроде бы было похоже на то, что европейские ценности соответствуют нашим...
Павел Гусев: Но у нас некоторые политики клюнули на это.
Игорь Шатров: И вот мы увидели, что такое европейские ценности, например, на «Евровидении» последнем, мы увидели: вот это и есть европейские ценности.
Павел Гусев: Это ужасно.
Игорь Шатров: Потом, что касается, вот вы говорите, демократии. Мы тоже иногда цепляемся за традиционные термины... Сейчас, конечно, ребята с академическими званиями меня поправят и начнут спорить, но тем не менее... Демократия, слушайте, закончилась тогда, когда площадь, на которой собрались люди, увеличилась до масштабов, что не видно, кто на этой площади находится. Но ведь что было? Собирались в Греции обеспеченные горожане мужского пола и решали вопросы.
Разве так нам потом объясняли, что такое демократия? Нет, говорили, что это для всех, – да нет, ничего подобного: как она была не для всех, так она и осталась не для всех. Она была для тех, кто эту демократию нам предлагает, нам насаждает, т. е. для тех, кто эти правила создает.
Роман Лункин: Ну конечно, труды философов – это одно, а реальность – это другое. И вы правильно сказали про агрессивное лицо либерализма, современного либерализма западного типа, но при этом это же агрессивное лицо появилось не вдруг. Была эпоха Просвещения, когда тоже провозглашались естественные свободы и права человека, провозглашалась свобода, равенство, братство, но была и Великая французская революция, которая тоже вроде бы руководствовалась вот этими идеями, которые с виду были вполне либеральными, но при этом было ощущение того, что необходимо силой заставить общество во что-то верить.
Потом это проявилось и в ходе западного колониализма и колониальной политики, отношения к расам совершенно отвратительного: это, собственно, и расизм в Соединенных Штатах, это и фашизм, который был тоже основан, в общем-то, на принципе такого принуждения исходя из осознания собственной правоты.
Павел Гусев: Да.
Роман Лункин: Соответственно, на протяжении XX века марксистская теория противодействия всякой культуре, традиции переделывания человека вполне логично соединилась с некоторыми неолиберальными идеями, неолиберальной идеологией.
И почему сейчас вот эта тема остро всех волнует? Потому что либеральная демократия в лице прежде всего Соединенных Штатов и неолиберальных элит Европы почувствовала свою силу в 1990-е и 2000-е гг., и об этом писал как раз Фукуяма, «Конец истории». Почему конец истории? – потому что «все, мы победили, мы достигли некоторого своего апогея».
И вдруг возникает определенная реакция. Эта реакция возникает в разных странах в связи с миграционным кризисом... Трампизм – это тоже ведь реакция на вот эту либеральную демократию, которая не является классическим либерализмом, в этом я абсолютно согласен. И сейчас противоборство идеологическое, как вот было в советский период между капитализмом и коммунизмом, сейчас идет противоборство между сторонниками идентичности, собственной самобытности. Это реакция и на глобализацию, когда всех хотели затолкнуть в мир общих ценностей и глобальных ценностей...
Павел Гусев: Да-да-да.
Роман Лункин: ...а потом все ощутили, что «а как же я?», «как же моя семья, Родина?» и т. д.
Павел Гусев: Значит что, Фукуяма ошибался или нет?
Роман Лункин: А Фукуяма признал свою ошибку.
Олег Ефремов: Два очень важных момента. Первый (я отчасти продолжаю то, что говорят коллеги): либерализм, к сожалению, всегда оставался только в рамках внутренней политики, даже если он там и был. На международной арене никогда никакого либерализма не было: там была «война всех против всех», как об этом писал Гоббс, и право сильного. И к сожалению, самые либеральные внутри себя державы на международной арене вели себя как раз прямо противоположно ими же заявленным принципам: всегда по принципу сильного, по праву сильного. И когда сегодня у нас говорят о многополярном мире и учете интересов всех участников мирового сообщества, и говорит об этом, скажем, лидер России, он гораздо больший либерал, чем те, кто объявляют себя хранителями этих либеральных святынь.
И второй момент тоже здесь очень важный. Понимаете, в чем дело, успешная адаптация в современности за пределами принципов либерализма сегодня невозможна, потому что именно с ним связана и рыночная экономика, и предпринимательство, и контроль общества над властью. Все это содержалось в классическом либерализме. И кстати, именно классический либерализм позволил создать достаточно успешную западную цивилизацию, которая многих поражала своим комфортом, человечностью, ориентированностью, скажем так, на интересы человека и т. д., которая сегодня уходит в прошлое.
Но западный вариант – это всего лишь один из вариантов либерализма. Проблема в том, чтобы в поисках идентичности вместе с водой не выплеснуть ребенка и не отказаться от эффективных форм, которыми связан классический либерализм, без которых мы ничего не добьемся.
Павел Гусев: Ну вот смотрите, вспомним давайте бомбардировки Югославии. Как к этому относиться с позиции либерализма, демократии, когда или встанешь на этот путь, или умрешь? А что сегодня происходит с рядом лидеров стран? Словакия, угрозы Венгрии, угрозы Вучичу – это что такое? В Германии сейчас постоянные угрозы: «Если так не будешь, то будет по-другому». Правому угрозы... Это что такое?
Игорь Шатров: «Если ты не с нами, ты против нас», вот и все, вот это принцип, который...
Павел Гусев: Но либерализм не направлен поначалу был, как они утверждали, на то, что все нужно решать кровью, уничтожением. Где диалог?
Игорь Шатров: Диалог им не нужен, потому что цели совершенно другие. Либеральная внутренняя повестка, вот эта вот витрина для другого мира... Вначале это было так, сейчас мы уже разобрались, что это витрина, но США были витриной для всего остального западного мира, западные страны покупали себе такие витрины вроде Польши для, например, таких стран, как Россия, чтобы показать: «Ну посмотрите, видите, что получается?»
Тем не менее население этих стран, конечно, привыкло к чуть более либеральной повестке, и с ним продолжают где-то заигрывать, где-то уже не заигрывают и со своими населением... Мы смотрим, как разгоняют беспорядки в Соединенных Штатах, и думаем, что это, конечно, не то что не либерализм, это даже... Это просто авторитаризм в самой последней стадии.
Но в чем вопрос? Я с коллегой немножко не то что не согласен, я чуть более консервативных взглядов, чем он. Либерализм-то, наверное, неплох, но везде есть условия исторического развития, начиная от географических даже координат и кончая какими-то традициями, которые с молоком матери нашей впитывались бы.
Какой либерализм мог создать такое государство, как Российская империя, где до сих пор на большей части территории страны не живут люди, но границы эти охраняются, расстояния эти преодолеваются, и все это считается, не то что считается – затвердилось как российское государство? Без участия государства, жесткого порой, сильного, которое вынуждено было где-то и «нагибать» своих граждан, мы бы не освоили эти территории, и никакой бы либерализм нам не помог западный.
Особенно европейская вот эта часть либерального мира, она развивалась по другим традициям, по другим правилам города создавались даже, по другим правилам. А Соединенные Штаты когда создавались, они-то уж тоже не через либерализм, извините, создавались, а через пистолет.
Павел Гусев: Да-да.
Игорь Шатров: Все, они забыли об этом. Просто, когда у них уже получилось, высосав со всего мира ресурсы и кадры, создать сильное государство, они сразу забыли о том, что они начинали с бандитов.
Павел Гусев: Все-таки посмотрите, сегодня либерализм держится прежде всего еще и на том, что они утверждают, что Россия – агрессивное государство, что эту агрессию вот только они, они могут остановить, хотя сами неоднократно участвовали в самых невероятных поступках, на которые весь мир разводил руками.
Роман Лункин: Прежде всего, для западных стран вот это представление о России сегодняшнее и в рамках украинского кризиса в целом – это, конечно, стремление консолидировать свое общество. Потому что все эти явления, о которых вы говорили, и миграция, и попытка расстрела консервативных или традиционных лидеров, которые выступают по крайней мере за остановку военного конфликта, за прекращение гонки вооружений в Европе, – все это следствия разделенного общества.
Потому что и Америка разделена, и видно, как часть элиты старается в нарушение опять же американских принципов демократий опротестовать и выборы, и засадить Дональда Трампа, хотя за него голосовало пол-Америки или даже бо́льшая часть населения Соединенных Штатов. Соответственно, в Европе это разделение провоцирует, получается, само руководство Еврокомиссии, которое насаждает свои правила и при этом говорит (это стало тоже общим местом), что если ты говоришь что-то против, то тебя просто называют пророссийским политиком и против тебя вводят санкции...
Павел Гусев: Ну да, клеймо ставят и все.
Роман Лункин: Да. Это хорошо видно, кстати, на примере Грузии, это очень цинично выглядит, поскольку там были дебаты и был принят парламентом закон об иностранных агентах, тут же президент Грузии назвала политиков, которые за это выступали, пророссийскими, а США объявили о том, что они введут санкции.
Павел Гусев: Да-да.
Роман Лункин: Хотя у них есть такой же закон. То есть это абсолютное лицемерие.
Олег Ефремов: Очень интересная мысль, потому что, действительно, ультралиберализм, в отличие от классического либерализма, тоталитарен. Он очень жестко реагирует на любые попытки несогласия с ним.
И это не только реакция государства, хотя и государство тоже в это дело вмешивается, но и т. н. институты гражданского общества начинают выполнять тоталитарные функции. Вспомним про знаменитую «культуру отмены»: даже если тебя не убьют физически, тебя уничтожат как социальную личность, тебя не будет. Достаточно тебе выступить против какой-то вот этой ультралиберальной повестки, и ты исчезаешь отовсюду: тебя не пустят в СМИ, тебя не пустят в университет...
Павел Гусев: Никогда, никогда, ни при каких условиях.
Олег Ефремов: Никуда. И действительно, эти страны расколоты, вы совершенно правы, коллега. Страны расколоты, потому что есть большинство, наверное, людей, воспитанных в духе этого классического либерализма.
Роман Лункин: Вы знаете, по социологическим опросам даже открытым Евробарометра, Евростата получается, что люди из рабочего класса, которые физическим трудом зарабатывают себе на жизнь, в общем, довольно-таки скептически относятся к «зеленой» повестке, например, к экологическим нормам, поскольку предполагается, что они будут внедряться за счет рабочего класса, который еще немного, но остался в Европейском союзе, за счет иммиграции, поскольку вот такая глобализация на рынке труда тоже никому не нравится. И это разрушение повседневного образа жизни вокруг обычного европейца в Польше, в Венгрии, даже в Германии, хотя Германия – одна из самых либеральных стран Европейского союза, и там эти нормы просто насаждаются.
Павел Гусев: Да. Но то, что вот сейчас консервативные партии, насколько я знаю, стали набирать гораздо больше голосов во многих странах Европы, – это, наверное, показатель противодействия той либеральной политике, которая на сегодняшний день не всех устраивает?
Игорь Шатров: Это реакция, реакция граждан, реакция социума на то, что происходит. А почему не устраивает? Просто потому, что как бы мы ни говорили, рабочий класс, фермеры, например, «крестьянство» раньше это называлось...
Роман Лункин: Фермеры, да.
Игорь Шатров: Все люди, которые своим трудом зарабатывают, – они на самом деле гораздо чаще даже гораздо более здравомыслящие, чем витающие в облаках и создающие какие-то картины будущего. И они, например, реально понимают, что вот сейчас происходит в той же Германии, например: заводы уезжают в Соединенные Штаты, за ними уезжают даже и люди. Либерализм дошел до того, что начал пожирать сам себя.
Павел Гусев: Сам себя.
Игорь Шатров: Соединенные Штаты уничтожают Европу, и поэтому им наплевать, Россия ли, Украина ли, Германия – все одно. И вот те люди, которые на земле, которые прямо вот чувствуют на своем кошельке, они это быстрее понимают. И поэтому консервативные политики вдруг появились. Нам казалось, что там все вдруг перекрасились, – ничего подобного: активные серьезные консервативные политики, и у них есть избиратель.
Олег Ефремов: Вы знаете, консерватизм появляется как раз тогда, когда появился либерализм, как реакция на него. И вот очень просто понять, собственно, кто с кем конфликтует. Давайте с одной стороны поставим Мартина Лютера Кинга, который выступал за то, чтобы в Америке все были равны вне зависимости от цвета кожи, и Джорджа Флойда и его последователей, которые требуют, чтобы белые целовали им ноги.
Давайте поставим с одной стороны отцов-основателей Америки, трудолюбивых, верующих, упорных, целеустремленных, и современных американских лидеров типа знаменитой Карин Жан-Пьер, которая говорила, что она имеет право занимать пост пресс-секретаря, потому что, во-первых, она лесбиянка, а во-вторых, чернокожая. Или того деятеля, который у них отвечал за атомную энергетику, в женском платье и с намазанными губами, который был пойман в аэропорту при воровстве женской сумки и поэтому отправлен в отставку, а до этого отвечал за ядерную энергетику в администрации Байдена. И в конце концов, эту линию можно продолжить.
Я к тому, что есть действительно разная Европа и разная Америка. Есть Америка, которая борется за вот эти классические принципы, сделавшие ее Америкой, и есть Америка, которая разрушает и уничтожает все это. Есть Европа, которая пытается сохранить свое лицо, свою идентичность, и есть та новая Европа, которая разрушает эту идентичность, а вместе с ней, собственно говоря, несет угрозу всему миру.
Павел Гусев: Понятно.
Меня, честно говоря, поражает, что власти стран, которые декларируют демократические, либеральные ценности, считают себя вправе навязывать свою волю другим совсем не демократическими методами и делят мир на первый, второй и третий сорт. Вот, например, созданный в Британии индекс демократии, ранжирование политических режимов в мире. Они авторитетно так оценивают: вот там – демократия, а там – неполноценная демократия или гибридный режим, а вот там – и вовсе авторитарный.
Вот какой режим, допустим, в Китае? Сами китайцы утверждают, что они – социалистическое государство демократической диктатуры народа. А Запад говорит: нет, ребята, авторитарный режим. Где правда?
Давайте спросим специалиста. На связи профессор-востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Здравствуйте, Алексей Александрович. Так насколько правдивы эти западные индексы? Какой режим в Китае?
Алексей Маслов: Я думаю, что здесь самая главная проблема заключается в том, что норму пытается установить Запад, и считается, что под эту норму должны подпадать практически все страны: и Китай, и Индия, и Северная Корея, и Россия тем более. Это хороший вопрос вообще, есть ли норма и почему эта норма должна именно происходить с Запада. Причем про эти нормы говорят не только с точки зрения режима, но и с точки зрения, как надо развивать экономику, как надо управлять международными отношениями.
Китай – страна, у которой действительно 5 тысяч лет непрерывной истории, и просто обращу внимание, что история всего лишь одной китайской династии больше, чем история всех США. Поэтому довольно забавно, когда страна со столь, честно говоря, не очень большой историей пытается Китаю объяснять, как им надо жить.
Дело в том, что в принципе, когда у тебя в стране живет 1 миллиард 400 миллионов человек населения (Китай всегда был очень большой страной), в течение столетий вырабатывалась система довольно четкого, жесткого и, как мы видим, успешного управления государством. Вернусь опять к истории: 5 тысяч лет – это не шутки; если государство сумело удержаться на исторической арене так долго, причем стать безусловно успешным, значит, это управление вполне нормальное.
Сам по себе Китай действительно определяет себя как страну с демократической диктатурой народа. Китай говорит, что в Китае социализм с китайской спецификой, т. е. да, действительно, главенствующее управление экономикой принадлежит государству, но почти 80% всех ресурсов управляются малым и средним бизнесом.
В Китае действительно довольно широкое есть обсуждение... Почему-то кажется, что Китай – страна абсолютно такая закрытая, но в реальности, пожалуйста, я сколько раз лично был на различных конференциях, где вполне открыто и вполне структурно критикуют правительственные органы, какие-то реформы. Да, действительно, в Китае не поощряется критика власти – а в какой стране она поощряется, строго говоря? Ни одна власть не довольна, когда ее критикуют.
Но самое главное, обратите внимание: за все столетия Китай никогда не навязывал свою форму правления, как надо управлять, как надо жить, другим странам. Китай никогда, например, не пытался экспортировать свою именно государственную и политическую модель. Экономику – да, политику – нет. Китай никогда не пытался влезть в дела Великобритании или США о том, например, как надо проводить выборы, как надо говорить с народом. То есть Китай всегда четко понимает...
Павел Гусев: А почему же тогда они-то лезут в Китай, если Китай к ним не лезет, а практически экономически показывает, как эта система работает на самом деле? Потому что Соединенные Штаты, насколько я понимаю, во многом сейчас зависят от Китая, и многие другие страны зависят в экономике. Чего вы лезете тогда в политические и другие игры, пытаетесь навязывать свою либеральную демократию, которая такой, может быть, уже и не является давно? Почему это происходит?
Алексей Маслов: Во-первых, этот вопрос задают сами себе китайцы постоянно, и для них удивительно и, честно говоря, оскорбительно, когда кто-то пытается им объяснять, как им управлять страной. Ну а почему, это тоже понятно: это старая такая прозелитская идея объяснять всем странам, как надо жить, и всех пытаться подвести под свой норматив.
И здесь идея очень проста, и она очевидна: ведь на самом деле это не просто желание помочь другим странам (это было бы вполне объяснимо) – это желание сделать так, чтобы все страны развивались именно так, как выгодно США, для того чтобы укреплять экономическую мощь США, для того чтобы прежде всего укреплять государственные институты США.
То есть идея заключается в том, что сколько бы разговоров о многополярности США ни вели (а ведь США же все время говорят о многополярности), при этом все равно нужно находиться в рамках тех правил, которые установили США. Эти правила не только политические, это и экономические правила: это ВТО, это Мировой банк... Это, по сути дела, система управления миром, центр которого находится в США.
И вот страна такая, как Китай, которая действительно очень серьезно развила свои ресурсы, она не хочет быть в рамках чужой модели. Более того, не только Китай – Индия не хочет жить в рамках чужой модели, Индонезия с населением 280 миллионов человек, Малайзия, практически вся Юго-Восточная Азия, не говоря уже о России. Вот в этом смысле у стран есть свои традиции...
Павел Гусев: Судя из ваших слов, все-таки конфликт неизбежен? Или баланс все-таки можно соблюдать?
Алексей Маслов: Конфликт исходит не из Китая, и и с точки зрения Китая, и с точки зрения вообще азиатских стран баланс можно соблюдать. Но ведь США не хотят этого баланса, ведь они же подводят к конфликту, поэтому здесь и возникают точки разлома. В этом смысле не надо обвинять, как говорится, другие страны в том, что они идут на конфликт, – именно США являются прародителем практически всех горячих точек на планете.
Павел Гусев: Спасибо вам большое!
Что мы с вами можем сказать? Кстати говоря, мы с вами говорили об индексе демократии, то, что там придумывают, – а вы знаете, что Соединенные Штаты не входят в верхушку этого индекса? То есть у них, как считает этот индекс, не развитая до конца, неполноценная демократия. Что происходит-то?
Игорь Шатров: Я думаю, это британцы, наверное, индекс придумали...
Павел Гусев: Наверное.
Игорь Шатров: Это их такая конкуренция.
Олег Ефремов: Кстати, вот очень интересно то, что сейчас говорил профессор Маслов, то, что все изменения, которые происходят в Китае, в общем-то, тоже могут быть определены как либеральной направленности. И что, может быть, как раз не следует привязывать либерализм к Америке или к Европе, что есть различные либеральные проекты.
Павел Гусев: Вот это очень хорошо вы сейчас заметили.
Олег Ефремов: И заметьте, правящие партии в Японии, в других азиатских странах называются либерально-демократические, но ведь это совершенно не тот либерализм, который в Америке. Важно, чтобы либеральные принципы сочетались с национальными традициями и национальными особенностями...
Павел Гусев: Очень важно.
Олег Ефремов: ...которые, кстати сказать, могут быть не условием, так скажем, проблем, а, наоборот, источником силы, как это делает Китай. Я все время говорю: нужен национальный модернизационный проект, включающий в себя и либеральные принципы, и особенности своей социокультурной среды.
Роман Лункин: Здесь интересно то, что профессор Маслов сказал о том, что все-таки это не просто идеология, когда стараются навязать свои принципы либеральной демократии. Всем известно о таком принципе открытого общества, которое в 1990-е гг. особенно продвигалось в России. Это открытое общество необходимо Соединенным Штатам прежде всего. Европа хотела к этому проекту присоединиться, заявляла о своей стратегической автономии, но, в общем, это не получилось, эта автономия рухнула. Это необходимо для продвижения и своих бизнес-интересов. Сразу, как только страна становится открытой, появляются западные общественные организации, НКО, и, собственно, начинается вот этот раскол общества, переделывание человека, семейных ценностей и традиций.
То, что происходит в Европе, – конечно, разделены сами консерваторы, вот в этом как раз проблема. На выборах в Европарламент в 2019 году консерваторы, т. н. евроскептики и популисты получили где-то 15% голосов. Сейчас, в 2024-м, прогнозируют где-то 30%, т. е. треть. Тоже, в общем, не очень много, и, как говорят, у них есть свой потолок, потому что таким образом избиратель как бы старается донести до европейских элит какие-то свои интересы, которые эти элиты не учитывают.
При этом консерваторов сложно объединить в целом. Это старается сделать уже не первый год премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, он проводит регулярно т. н. Конференцию консервативных действий, которая корнями в Америке и т. д. Туда приезжают консерваторы и сторонники-традиционалисты, противники американо-европейского, западного порядка из всех стран Европы: там есть из России, Сербии, Италии, Германии и т. д.
Но при этом, понимаете, одни выступают со светских демократических либеральных принципов, другие выступают с точки зрения защиты традиций... Маттео Сальвини за католическую традицию, Виктор Орбан и другие – за сохранение просто таких общих иудеохристианских ценностей... Одни за аборты, другие – против; одни резко против мигрантов, другие как бы за, более гибкую позицию...
Поэтому вот этот лагерь, который противостоит либеральной или неолиберальной демократии, и сейчас тоже расколот.
Павел Гусев: Понятно.
Роман Лункин: Один из способов объединить – это, конечно, многополярный и равноправный мир. Вот эта позиция хорошо была заявлена, как раз объединяющая, очень общая, которая могла бы подойти для всех, и на Валдайском клубе об этом говорил президент, была статья о кризисе либерализма в Financial Times Владимира Владимировича Путина и декларация Си Цзиньпина и Путина в 2023 году, там очень интересно было об этом написано.
Павел Гусев: Можно говорить, что если кто и спасет мир и демократию, то это мы, давайте, и Европу тоже.
Роман Лункин: Спасение в равноправии цивилизаций.
Игорь Шатров: Если кто и спасет мир, то да, мы, и нам еще придется спасать Соединенные Штаты.
Беда-то в чем, проблема Соединенных Штатов (это их, может быть, даже уже не вина, а беда)? Дело в том, что когда-то американские политики, американский народ потеряли власть в своей стране – они отдали ее транснациональным корпорациям. Они взрастили мощнейшие бизнесы, которые протянули свои щупальца по всему миру.
Павел Гусев: По сути дела, влияют полностью на политическую...
Игорь Шатров: Конечно. Влияют-то они, т. е. им все равно, как живет рядовой американец, также все равно, как живет рядовой немец, или русский, или украинец тем более. Поэтому им надо вернуть власть в свои руки, об этом говорил в свое время Трамп. Вот когда он начал возвращать бизнес, реальный, такой промышленный бизнес, а не вот эти корпорации, которые заменили собой, по большому счету, политиков.
А политики просто продались им в свое время, им, в общем-то, все равно, кто им платит деньги: им платят деньги – они делают вид, что ведут какую-то политическую борьбу в парламенте, в Конгрессе и т. д. Вот в чем проблема современных Соединенных Штатов, и им надо помочь вернуться на демократические рельсы, мне кажется.
Роман Лункин: И кстати, многие неолиберальные политики и философы открыто заявляли о том, что вот этого рядового, простого человека, европейца с его традиционным образом жизни, хорошо бы разбавить. Разбавить кем? Мигрантами, разбавить ЛГБТ-меньшинствами и разного рода другими меньшинствами. Для чего? Для того чтобы он был более управляемый и подходил для вот этой глобальной либеральной демократии.
Олег Ефремов: Вы знаете, что сейчас на Западе очень популярны антиутопии, которые как раз говорят о его конце? И одной из версий является становление там халифата. Причем, например, Уэльбек прямо пишет о том, как спокойно они готовы будут это принять. Они устали; они устали и вот от этого ультралиберализма, и уже не видят никаких целей, ничего, и вдруг приходят такие энергичные представители исламского мира, и они готовы им подчиниться.
Павел Гусев: Вы знаете, все-таки вот давайте: ведь сегодня Европа – это просто вот такое, знаете, море разливанное иммигрантов, т. е. тех людей, которые приехали, и большинство из них, как показывает статистика, 20% с небольшим только работает, а остальные живут на пособия и на какие-то черные делишки, по-другому жить невозможно. Так ведь получается?
То есть создали сами себе какую-то, я не хочу сказать помойную яму, потому что это будет неправильно, это тоже люди, но они из людей делают какую-то массовку, которой ничего не нужно кроме того, чтобы прийти и получить очередной куш от государства.
Игорь Шатров: Коллега сказал: самое главное было размыть эту идентичность. Для тех, кто управляет миром, вот этих транснациональных корпораций, необходимо было размыть идентичность, оторвать от корней, перемешать все, например, в той же Италии, чтобы они уже забыли о своем...
Павел Гусев: Нидерланды, насколько я знаю, сейчас выступают уже против всего этого.
Игорь Шатров: Не только Нидерланды. В том-то и дело, что вот вопрос вот этой консервативной реакции сейчас стоит на повестке, и в данном случае не надо, я думаю, коллега как либерал не будет выступать против тех консерваторов, которые хотят вернуть на истинный путь, на нормальный путь Европу.
Олег Ефремов: Более того, я скажу, что сегодня консерватизм как раз защищает то, что когда-то защищали классические либералы. Сегодня смещаются понятия, и сегодня консерватор – это как раз защитник классических принципов в противовес тому, что предлагается...
Павел Гусев: Это парадокс такой.
Олег Ефремов: Да, это парадокс. Кстати, Трамп в какой-то степени консерватор все-таки.
Игорь Шатров: Конечно, мы его считаем больше консерватором.
Олег Ефремов: Но он защищает именно то, что...
Игорь Шатров: Либеральные ценности.
Олег Ефремов: Классическую Америку против этой новой, странной, измененной Америки.
Роман Лункин: Я думаю, что с идеологической точки зрения Запад столь рьяно ввязался в украинский кризис именно потому, что он опасается, что западный порядок рухнет и рухнет то представление о либеральной демократии, которое, как вы сказали, сформировало вот эту «помойку». Этой помойки, кстати, испугался сам Фрэнсис Фукуяма: в 2018 году он издал книгу «Идентичность» про запрос на достоинство, где как раз прямо написал о том, что «куда-то мы не туда идем, мы переделываем вообще все, мы дискриминируем всех».
Павел Гусев: Вы посмотрите метания Соединенных Штатов, обычное такое, знаете... Просто вот это же короткий период истории. Совсем недавно вот этот т. н. МУС [Международный уголовный суд], который выносит какие-то странные решения в отношении тех или иных лидеров, он сейчас, МУС, хочет вынести решение по Нетаньяху и по его министрам, возбудить уголовные дела... Что делают Соединенные Штаты? Мгновенно выступают против.
Игорь Шатров: Но самое-то главное, мы не должны забывать, что при этом Соединенные Штаты не считают МУС судом, который может в отношении Соединенных Штатов что-то выносить, они не признают его мандат. То есть вот это интересно.
Павел Гусев: Но они его финансируют, помогают финансировать.
Игорь Шатров: Они его финансируют. То есть это поразительная история.
Олег Ефремов: Да все международное право – это уже давно фикция. Международное право – это просто право сильного, и Соединенные Штаты, когда нужно, легко меняют эти принципы. Они даже не называют это законами, они называют это правилами, «и правила мы устанавливаем». Они говорят: «Россия действует против правил», – а откуда эти правила взялись? Это правила, которые придумали сами Соединенные Штаты, и меняют их так, как им это удобно.
Павел Гусев: Как им удобно.
Хорошо, а в этой ситуации Организация Объединенных Наций все-таки является пока еще той высшей ступенью, которая что-то может, так скажем, балансировать в мире в политике, в экономике, в политических течениях и т. д. и т. п.?
Игорь Шатров: Мне кажется, это самый сложный сегодня вопрос.
Павел Гусев: Вот.
Игорь Шатров: Сказать иначе – это значит просто, мне кажется, подорвать... Сказать, что Организация Объединенных Наций неспособна ни на что, – это подорвать вот этот вот хрупкий миропорядок. Потому что все равно люди приезжают из 200 стран мира и собираются за этим круглым столом в этом большом зале.
Роман Лункин: Я абсолютно согласен. Но вот Организация Объединенных Наций, если исходить из фактов, остается не только наблюдателем, поскольку все-таки действует Совет Безопасности и есть вето России и голосование в т. ч. союзников России, т. е. это по крайней мере работает.
Другое дело, что европейцы, собственно, настолько цинично не нарушали свои собственные правила западные, как это делают США, и здесь пример Международного уголовного суда, здесь пример суда Европейского союза, который хотел засудить Венгрию и Польшу за то, что они запретили пропаганду нетрадиционных ценностей как раз...
Павел Гусев: Да.
Роман Лункин: И это дискриминация по религиозному признаку и в странах Балтии, и на Украине, Православной церкви, поскольку это тоже очень цинично происходит.
Павел Гусев: Очень цинично.
Знаете что? В завершение уже нашей с вами встречи: а все-таки, как вы думаете, какой принцип правления в мире должен быть или устояться? Вот мы говорили про Китай, мы говорили про консерваторов, про либералов, мы говорили про каких-то демократов, которые уже непонятны... Какая форма управления идеальная, как вы считаете?
Олег Ефремов: Если говорить о международном сообществе, то, возможно, как раз эти либеральные принципы здесь и нужны: принципы уважения друг к другу, принципы сотрудничества, принципы учета взаимных интересов, принципы принятия того, что кто-то не похож на тебя. И если эти принципы будут работать на уровне международного сообщества и будут закреплены в международном праве, то тогда каждая страна сможет развиваться так, как нужно, как она сама считает для себя необходимым, и конкуренция будет не борьбой, а просто, так скажем, сосуществованием и соревнованием различных версий развития.
Игорь Шатров: А если говорить уже о какой-то политической системе в отдельных странах, мне кажется, нет универсальной модели и каждая страна способна действительно в многообразии этих систем предложить свой вариант, и он будет выигрывать или проигрывать в исторической борьбе. Со временем, рано или поздно что-то будет иметь бо́льшие преимущества, а что-то покажет свою недееспособность.
Павел Гусев: Роман, а вы как считаете?
Роман Лункин: Действительно, идет поиск нового пути равноправия цивилизаций и некоего морального императива, как писал Кант, и идет поиск новой модели сочетания демократических механизмов и традиционных ценностей.
Павел Гусев: Спасибо! На этом мы закончим сегодня, пора. Благодарю вас, уважаемые эксперты, за этот разговор!
С вами был Павел Гусев, главный редактор «МК». Прощаемся на неделю.