Психологи в законе
https://otr-online.ru/programmy/klub-glavnyh-redaktorov/psihologi-v-zakone-86689.html 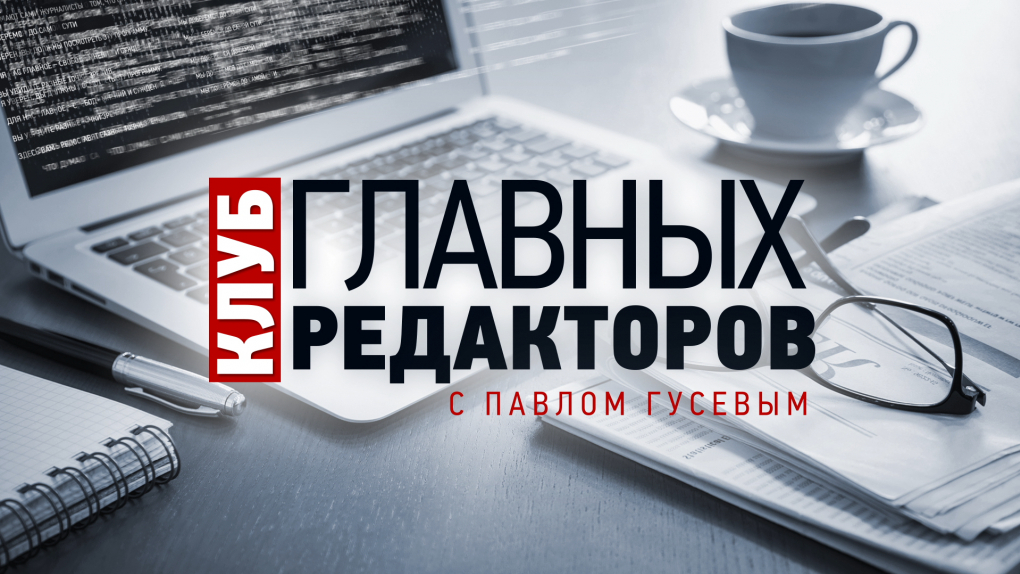
Павел Гусев: Здравствуйте! Я Павел Гусев, и это «Клуб главных редакторов».
Немного о психологии сегодня. Разговоры о том, что нужно регулировать деятельность психологов, ведутся не первый год, и не первый уже законопроект в этой связи разрабатывают и предлагают депутаты. Давайте же разберемся, как те или иные законодательные инициативы отразятся на психологическом состоянии россиян и помогут ли оградить нас от лжепсихологов и прочих инфоцыган.
У меня в гостях:
Анна Данилова, главный редактор информационного объединения «Эра», вице-президент национальной ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов» и Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги;
психолог Андрей Зберовский, доктор наук, профессор;
и Александр Терновцов, юрист, член Общественной палаты.
Итак, нужно ли действительно жестко регулировать деятельность психологов? Давайте начнем с этого.
Андрей Зберовский: Деятельность психологов, как и любую другую деятельность, надо регламентировать, для того чтобы люди понимали, кто такой психолог.
К сожалению, если так вот говорить по существу, психологи целое столетие формировали позитивный имидж. Это были умные люди, мужчины и женщины, с профессиональным, профильным образованием, с опытом работы, с научным пониманием мира. Сейчас к этому образу психолога примазываются шарлатаны, мошенники, астрологи, нумерологи, ясновидящие, тарологи и прочие хироманты, которые получают деньги из этой, повторю, благообразной, серьезной научной профессии.
И задача закона, конечно же, отсечь эту шушеру, эту такую очень сборную солянку от тех людей, которые, безусловно, профессионально, милосердно, гуманно желают профессионально помогать людям.
Павел Гусев: А что для этого нужно?
Андрей Зберовский: А для этого нужно, чтобы, во-первых, в законе было написано, что психолог – это человек, который ведет психологическую деятельность на научных основаниях, не на оккультных, эзотерических, мистических и иных паранаучных, это первое, чего, кстати, пока еще нет в том законе, собственно говоря, прообраз которого выложен в доступ, в обсуждение.
Во-вторых, конечно же, необходимо, чтобы было высшее психологическое образование профильное или хотя бы на базе высшего образования действительно серьезная, полноценная, многочасовая переподготовка профессиональная, которая бы позволяла человеку стать психологом.
Ну и плюс, конечно, регулярное, как это было принято раньше, раз в 5 лет повышение квалификации опять же в серьезных профессиональных учреждениях, не филькиных учреждениях, где грамоту выдают за деньги любому, кто отслушал онлайн 20 или 30 часов. Поэтому, безусловно, вот эти простые вещи уже позволят довольно существенно отсечь ряд тех, кто примазывается к нашему серьезному научному сообществу.
Павел Гусев: А может быть, некоторым психологам нужен просто психиатр?
Андрей Зберовский: Вы знаете, я думаю, что психиатры нужны представителям любых профессий, если немножко сложности у них возникли в голове, в этом плане психологи не отличаются от любых других представителей серьезных видов деятельности. Но подчеркиваю, психиатры и психологи часто одно и то же, потому что...
Павел Гусев: А вы уверены, что это одно и то же? Я как раз хотел спросить: психолог и психиатр – это одно и то же?
Андрей Зберовский: Нет, это не одно и то же, но многие психиатры работают психологами, соответственно, психологи не могут быть психиатрами, потому что это медицинское образование, полноценная история. Есть такая переходная модель под названием «клинический психолог», который может дать определенные, скажем, опции, близкие к медицинскому специалисту, т. е. психиатру, психотерапевту, но базово это, конечно, разные истории.
Павел Гусев: Абсолютно. Хорошо.
Скажите, Анна, ваше отношение к тому, что вот с 2014 года депутаты все время вносят законопроект за законопроектом...
Анна Данилова: Да, абсолютно верно.
Павел Гусев: Следующий, следующий... И вот недавно появился еще один законопроект о том, что нужно вот как-то или регламентировать, или, наоборот, закрутить гайки и скрутить психиатров одной веревкой... Психологов, а не психиатров.
Анна Данилова: Психологов, да.
Уважаемые коллеги, здесь нужно заглянуть далеко за 2014 год и сказать о том, что попытки регулирования отрасли длятся более 20 лет, и пока что ни один законопроект не оказался успешным. И здесь, наверное, имеет смысл задать вопрос, почему, неужели у нас депутаты настолько неквалифицированные, что они не могут составить такой законопроект.
Обращаясь к этому вопросу, важно отметить несколько тезисов.
Во-первых, профессионалов могут регулировать профессионалы, могут оценивать и регулировать их деятельность только профессионалы.
Павел Гусев: Это очень интересно.
Анна Данилова: Вот давайте подумаем. У нас на сегодняшний день на территории России зарегистрировано более 50 разных методов, модальностей психотерапии. Любая психотерапия, или психологическое консультирование, о котором мы говорим, может развиваться и практиковаться только в определенном методе, не абы как, а в методе. Вот методов сейчас более 50.
Павел Гусев: А кто придумал-то эти методы?
Анна Данилова: Это великие школы, это подтвержденные в т. ч. в научном сообществе школы, например: аналитические школы, школы гештальтпсихологии и психотерапии и многие другие.
У нас на базе Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги мы более 25 лет ведем реестры этих подтвержденных модальностей. Можно зайти и посмотреть это разнообразие. И в этом разнообразии подходов важно выявить единство, которое бы работало на повышение психологического благополучия, ведь оно для нас сейчас так важно.
Павел Гусев: Кстати, вот давайте мы сейчас посмотрим короткий сюжет о том, какая психологическая помощь нынче в моде.
СЮЖЕТ
Голос за кадром: Психолог детский, психолог семейный, психолог корпоративный, прием в поликлинике, в частном кабинете или дистанционно, онлайн – россияне только-только начали всерьез относиться к этой профессии и оценили пользу, а тут уже подоспели психологи с новыми веяниями и методами. Гештальттерапевты, сторонники экзистенциального подхода или гипноза Эриксона, а еще системно-семейные расстановки по Хеллингеру, групповая терапия, где участники играют роли членов семьи, чтобы переосмыслить детско-родительские травмы.
Популярность набирает еще один метод, который представители классической психологии в большинстве своем называют спорным и даже лженаучным, – регрессивный гипноз в состояние транса и путешествия в детство и даже в прошлые жизни.
Где же учились психологи, предлагающие такую терапию? Можно ли стать гипнологом или, скажем, расстановщиком, получив диплом гособразца в престижном вузе?
Психология – штука тонкая, и мнения о том, что считать научно доказанным, а что – шарлатанством, расходятся. К примеру, всего несколько десятков лет назад к такой специальности, как полиграфолог (психолог, работающий с детектором лжи), относились с недоверием, а теперь этому учат в МГУ.
Павел Гусев: Вот все эти новомодные тенденции – это что-то на грани мракобесия или же вполне действенные методы современной психотерапии? И смогут ли они применяться в случае, если законодатели закрутят гайки? Как считаете, Анна?
Анна Данилова: Я считаю, что любой законопроект, особенно в нашей области, должен быть развивающим, а не запрещающим и ограничивающим. Важно обратить внимание на то, что ведь психолог – это то, что мы стали называть таким словом относительно в границах времени недавно. Но кто раньше выполнял функцию психологов?
Павел Гусев: Кто?
Анна Данилова: Священнослужители, например.
Павел Гусев: Вот это вы хорошо сказали.
Анна Данилова: Сейчас мы уже много лет говорим о том, что при работе с человеком мы рассматриваем его структуру исходя из четырехчастной парадигмы, т. е. биопсихосоциодуховная. И по большому счету, мы не можем работать с человеком, выкинув одну из этих частей. Соответственно, кто же тогда православные психологи? С какими концепциями они работают? Какое научное обоснование есть, например, под теорией Юнга психоаналитической?
И ведь на самом деле мы можем опираться на то, что психоанализ изначально клиникоориентированный, т. е. это метод, которым работают с пациентами, с которыми в дальнейшем можно уже было работать как с клиентами. Как мы называем, есть пациенты, а есть клиенты, и наша задача как психотерапевтов, психологов, чтобы пациенты стали нашими клиентами.
Павел Гусев: Ну вот скажите, пожалуйста, а вот эти вот все методы, то, что мы смотрели, – они же не признаны пока? Я так понимаю, это вот такая, знаете, отсебятина в какой-то степени. И что в этой ситуации делать? Это каждый из этих вот личностей, так скажем, которые пытаются что-то объяснять, говорить, – это же самоучки или что?
Анна Данилова: Здесь хочется ответить следующим образом.
Во-первых, чаще всего психотерапия, или психологическое консультирование, – это профессия второй половины жизни. Мне сложно представить психолога в 18 лет, мне сложно представить эффективного помогающего практика в 20 лет, в 23 года. Для той профессии, о которой мы говорим, очень важно и наличие жизненного опыта.
Так вот психотерапия и психология – это профессия второй половины жизни. И хочется процитировать, ответить здесь словами одного из великих учителей в психотерапии: психотерапия и консультирование, методы психотерапии – это как скальпель: в руках опытного хирурга, хорошего, обученного хирурга, он будет спасать жизни, а в руках фанатичного маньяка он эти жизни будет забирать.
Павел Гусев: Ну да...
Анна Данилова: И здесь, наверное, во главу угла встает понимание, а кто же такой психолог и гарантирует ли наличие высшего профильного образования определенную структуру личности этого психолога, которая в дальнейшем будет помогать, которая в дальнейшем будет исцелять. Ведь у нас многие из тех консультантов или психотерапевтов, кто сейчас на слуху, они по документам имеют высшее образование психологическое, более того, это государственные вузы.
Павел Гусев: Понятно.
Александр Валерьевич, вот скажите, пожалуйста, вы и юрист, и представитель общества, гражданского общества, Общественной палаты – как вы относитесь ко всему, что вот мы с вами сейчас уже начали и говорить, и показали? Как здесь относиться с позиции... ? Что у нас выше всего? Это закон. С позиции закона, законодательства, с позиции гражданского общества. Как гражданское общество реагирует?
Ведь еще 50 лет назад, могу честно сказать, я не встречал в таких объемах, таких размеров то, что сейчас происходит с аудиторией, где сотни, иногда тысячи людей, и они вот так сидят и потом еще делают какие-то движения в такт тому, что со сцены делает тот или иной «иллюзионист», так скажем.
Александр Терновцов: Вы знаете, я считаю, что, безусловно, мы с опозданием всегда пытаемся регулировать то, что уже требует регулирования. И XXI век, депрессия, эмоциональное выгорание – это те болезни, с которыми каждый гражданин России сталкивается.
И вот я сейчас себя поймал на мысли: а кто же является такой пациент такого психолога? Он пациент, или он клиент? И от этого зависит ответ на вопрос. Если он клиент, то на него распространяется Гражданский кодекс, закон «О защите прав потребителей», значит, он должен иметь право получить услугу и дать оценку ее качеству. Если он пациент, то это уже доступ к профессии, это уже ограничения, лимиты. И безусловно, что регулирование, я думаю, что здесь все согласятся, должно быть.
Теперь что касается формы вовлеченности государства в это регулирование. Я не сторонник того, чтобы государство давало сертификаты на эту деятельность.
Павел Гусев: То есть это дело не государства?
Александр Терновцов: Дело не государства. Но государство должно создать механизмы, когда само профессиональное сообщество дает доступ к профессии.
Павел Гусев: Ну подождите, вы говорите, не дело государства – у нас сейчас сколько уже уголовных дел?
Александр Терновцов: Так уголовные дела-то возникают в результате чего? Вот в сюжете же показали прекрасно детектор лжи, но в суде сведения, полученные в результате этого исследования, не могут быть использованы, это не доказательство.
Павел Гусев: Это не доказательство.
Александр Терновцов: Это не доказательство – это документ, позволяющий следователю определять ход следствия. И если, извините меня, ты прошел детектор лжи и твое дело передали в суд, а специалист сказал, что он невиновен, он непричастен, то суд не может это доказательство положить в основу приговора.
Поэтому есть вещи, которые, знаете, являются полулегальными, полудопускаемыми. Так вот я считаю, что государство должно в первую очередь дать сфере регулирования саморегулирование.
Анна Данилова: Да!
Александр Терновцов: Приведу пример: нотариусы, адвокаты, строители, оценщики – это вся та сфера, которая саморегулируемая. Опять-таки, я привожу пример. Если мы говорим, что там много всяких методик, – извините меня, у нас и в адвокатуре тоже специализация: кто-то специализируется на семейных делах, кто-то – на уголовных, кто-то – на гражданских, кто-то, извините меня, сейчас на военных делах специалист...
Павел Гусев: Да-да-да.
Александр Терновцов: Это же все равно доступ в профессию.
Поэтому запоздало регулирование, давно было пора уже это регулировать, и тогда, понимаете, мы бы исключили количество мошенников, которые туда лезут, в эту сферу.
Павел Гусев: Скажите, а вот те законопроекты, которые предлагаются и депутатами, и не только депутатами, – какие вы основные видите, так сказать, недоработки, недостатки этих законопроектов? Что в них смущает и самих законодателей, и они никак принять не могут, но смущает и гражданское общество?
Александр Терновцов: Вы знаете, я бы сказал, даже начал бы не с содержания, потому что содержание законопроекта – это тема для дискуссии. Любой законопроект от внесения до его принятия претерпевает изменения, может быть, сотню раз, и нет смысла обсуждать конкретно. Я бы концептуально начал.
Первое, я считаю, что все-таки этот законопроект нужно принимать с учетом профессионального обсуждения. Вот есть у нас доктора наук, есть ассоциации – их нужно вовлечь в написание этого закона. Только тогда закон родится таким, каким он должен регулировать эту сферу.
Павел Гусев: А вас никого ни разу, никогда не привлекали к написанию?
Андрей Зберовский: Вы знаете, я могу сказать, что я когда читал текст законопроекта, который сейчас вынесен на обсуждение, у меня вызывает огромное ощущение, что никто из специалистов, именно практиков, не участвовал...
Павел Гусев: Даже не видел в глаза.
Андрей Зберовский: Потому что, смотрите, вот сейчас мы знаем статистику в нашей стране разводов, статистику деторождения, у нас детей рождается все меньше, огромная их часть рождается вне брака, браки у нас разваливаются, по статистике, 70%, в некоторых регионах и 80%, т. е. огромный спрос на работу психолога.
Но опять же, с одной стороны, у людей есть спрос, с другой стороны, у людей есть колоссальная опасность того, что их персональные данные и, самое главное... Даже бог с ними, с паспортными данными, они уже гуляют все, у всех в доступе давно, но их грязное нижнее белье (внебрачные дети, измены, уходы, конфликты) могут оказаться во власти информационных потоков, если люди будут заключать договора с психологами.
Документ, который я видел, проект закона, предусматривает только договорной характер работы с психологом, и это в условиях, между прочим, когда сейчас бо́льшая часть консультаций уже (XXI век) в онлайне: звонят люди условно с Якутии, откуда-нибудь с Иркутска...
Во-первых, подписание договора занимает энное количество времени, потому что... И опять же, психолог не проверит. Вот я сижу себе тихонько где-нибудь в Москве, а человек из Челябинска ко мне обращается. Во-первых, я его паспорт не посмотрю, человек может отказаться. Если, соответственно, он паспорт свой указывает и мы с ним работаем по каналам незащищенным, незашифрованным, по различным там мессенджерам, по телефону, он описывает свою историю, болезненную историю, свои семейные истории (измены, уходы, разводы), много чего вытаскивается там, соответственно, и переживания глубоко личные, и чувства вины за прошлые какие-то истории, в т. ч. могущие [быть] на грани Уголовного кодекса...
И все это, подчеркиваю, вместе с данными паспортными, всем остальным может вылиться и поломать жизнь человеку гораздо хуже, чем, скажем, опубликование медицинского диагноза, какого-нибудь там, извините меня, остеопороза или радикулита, – это совсем разная история.
То есть я понимаю, что данный закон отсечет огромное количество людей от официальных психологов, потому что такие люди, как я, имеющие высшее образование, ученые степени, работающие легально, мы-то будем закон исполнять, чтобы к нам не пришли, а какой-нибудь астролог, нумеролог скажет: «Я ему не подчиняюсь, потому что я не психолог». И он заберет эту нишу на себя.
И что мы получим? Мы получим огромное травмирование населения. Ко мне и сейчас приходят каждую неделю люди, которые были у какого-нибудь там родолога или вот расстановщика по Хеллингеру и говорят: «Слушайте, а вы работаете с родовым проклятьем?» Я говорю: «Я тут при чем?»
Александр Терновцов: Я вам скажу, что я ничего не вижу плохого в астрологах, пусть и эта профессия, даже не профессия, пусть эта сфера тоже существует.
Андрей Зберовский: Подождите секундочку, но мы с научных позиций обсуждаем.
Александр Терновцов: Смотрите, договор нужен не для того, чтобы только лишь упростить психологам работу с пациентом.
Андрей Зберовский: Слушайте, если люди из Общественной палаты выступают за астрологов...
Павел Гусев: Давайте мы сейчас продолжим этот спор буквально через несколько минут. Я предлагаю сейчас поговорить с представителем тех, кого мы, возможно, обижаем, не воспринимаем всерьез. С нами на связи Людмила Сухова, которая предлагает своим клиентам, по сути, услуги психолога, хотя образования психологического у нее нет. Людмила, здравствуйте.
Я знаю, что вы обещаете быстро решить любые психологические запросы и помочь найти выход из самых сложных жизненных ситуаций. А как же вы это делаете без диплома психолога? Вы что, ясновидящая?
Людмила Сухова: Здравствуйте.
Можно сказать, и ясновидящая, потому что я вижу ясно обстоятельства без эмоций. Когда-то давно я обращалась к психологам, мне не помогли они, и мне пришлось самой с собой разбираться в своей голове, для того чтобы решить свои личные проблемы. И, разобравшись с собой, я поняла, что психологи не дали мне того эффекта, которого лично я, например, хотела.
Как я пошла, каким методом? Я поняла причинно-следственные связи. То есть психолог работает больше с эмоциями, а я работаю с началом, откуда возникает эмоция, с внутренним диалогом. Я объясняю людям, почему с ними это происходит, объясняю, откуда это в голове у них началось.
Павел Гусев: А какими методами вы это делаете?
Людмила Сухова: Ну... Аналитика, просто логическая аналитика.
Павел Гусев: Аналитика... Любая аналитика – это в принципе и большой опыт, ну и глубокие знания.
Людмила Сухова: Это большой опыт. Я работаю 15 лет с людьми, объясняю им, разговариваю с ними. Я до сих пор еще анализирую вещи, с которыми, допустим, я не сталкивалась. Конечно же, в первую очередь я начала с самой себя.
Павел Гусев: Я знаю, что вы тем не менее, при всем том, что вот вы внутри себя пытаетесь какие-то вещи найти, тем не менее вы пошли учиться.
Людмила Сухова: Я пошла учиться только потому, что я понимаю, что на сегодняшний день будут гонения таких, как я.
Павел Гусев: На психолога учиться пошли.
Людмила Сухова: Это ближе ко мне. Нет у нас программы ясновидения, у нас нет такого, у нас никто этого не преподает.
Анна Данилова: Слава богу.
Людмила Сухова: Поэтому я пошла учиться на психолога, потому что это ближе ко мне. Но, если честно, я вот сейчас смотрю психологию, она вся основана на Фрейде, и это...
Павел Гусев: Не то?
Людмила Сухова: У нас давно уже психика «улетела», у нас ИИ есть, но при этом мы основываемся на методах Фрейда, т. е. это преподается.
Павел Гусев: Вы ради корочки пошли учиться или все-таки ради знаний? То есть получить корочку как защиту?
Людмила Сухова: Да.
Анна Данилова: «Прекрасно».
Павел Гусев: Это «замечательно».
Андрей Зберовский: Вот я хочу обратить внимание. Видно, что человек не очень понимает новые тенденции в психологии, потому что даже когда я обучался на психолога 20 лет назад, условно говоря, уже давно история Фрейда не является основой психологии.
Анна Данилова: Да.
Андрей Зберовский: Психология стоит сейчас на научных историях, на нейрофизиологии, на многих других, именно медицинских в том числе, основах, гормональных и т. д. Поэтому уже вот ваше даже представление о психологии сильно устарело.
Но я хочу сказать про другое. Вот мы с вами выступаем на федеральном канале, мы говорим о том, что астрологи могут существовать, ясновидение [якобы] является более эффективным методом психологии, и нас слышат люди. Мы как собираемся вопрос решать о существенной, научной основе работы психологов и о законах, когда мы допускаем существование всего этого, причем в работе с людьми?.. Коллеги, давайте как-то понимать, чем мы занимаемся сегодня в студии.
Павел Гусев: Пожалуйста. Можете ответить?
Людмила Сухова: Да, я могу ответить. Первоисточник какой, зачем вообще мы здесь собираемся и зачем мы что-то изучаем и что-то узнаем? Для того чтобы помогать людям.
Андрей Зберовский: Позвольте мне обратиться...
Павел Гусев: Пусть ответит.
Людмила Сухова: Если мы им не помогаем, защищаем только свою структуру, о какой помощи идет речь? У меня погрешность 2%, пришел человек, я ему помогла, он ушел довольный, счастливый, радуется жизни, и я рада за него.
А то, какой должен быть закон, – да, согласна, должен быть закон, потому что разные бывают люди. Но в психологии тоже есть погрешность, тоже приходят мошенники, которые ни фига не понимают, но при этом...
Анна Данилова: Да.
Павел Гусев: А как вы себя называете, когда приглашаете клиентов? Вы психолог, или коуч, или кто вы?
Людмила Сухова: Никак не называю я себя, потому что я говорю о том, что я не в стандарте, не психолог я, я не занимаюсь обычной психологией, я не занимаюсь обычными учениями. У меня есть свое учение. Я вот даже решила написать диссертацию на эту тему.
Павел Гусев: В качестве кого вы предлагаете свои услуги?
Андрей Зберовский: Вам же сказали, «ясновидящая».
Людмила Сухова: Мой телефон передают и говорят: «Вот она тебе поможет», – вот так.
Анна Данилова: Сарафанное радио.
Людмила Сухова: Мне люди звонят и говорят: «Помогите мне». Я говорю: «Пожалуйста, я вам помогу».
Павел Гусев: Вот у вас за спиной висят две грамоты – это вас кто-то наградил, или это для психологической обработки, знаете, для своего веса?
Людмила Сухова: Это я заканчивала институт йоги в Индии.
Павел Гусев: А-а-а, в Индии...
Андрей Зберовский: Можно задать прямой вопрос?
Смотрите, у нас человек прямо говорит в эфире о том, что он идет получать диплом психолога просто для корочки, а сам он по факту ясновидением занимается. А вот представьте себе, вы или кто-то из ваших близких людей идет к хирургу, который хирург по корочке, который получил хирургию по корочке, а занимается своей хирургической деятельностью вообще по своим собственным принципам, где-то там отучился непонятно где, но не [на факультете] хирургическом в медицинском институте. У вас уровень доверия, уровень эффекта этого специалиста, как вы думаете, будет сильно высок? Мы требуем от хирурга образования хирургического или нет?
Людмила Сухова: Поэтому мы видим сейчас хирургию, где отрезают органы, и очень много [], большая погрешность, как и в любой профессии.
Андрей Зберовский: Нет, вы ответьте на прямой вопрос, пожалуйста, надо ли хирургу медицинское образование.
Александр Терновцов: Можно я все-таки вступлюсь?
Павел Гусев: Подождите, очень длинные вопросы вы задаете – короче.
Александр Терновцов: Можно я все-таки вступлюсь? Я так понимаю, человека в профессию привел личный опыт.
Людмила Сухова: Все верно.
Александр Терновцов: А нет ничего лучше личного опыта. Вот я сейчас приведу пример. Скажите мне, вот психолог с 10-летним стажем...
Павел Гусев: Хуже или лучше?
Александр Терновцов: Лучше нет личного опыта.
Приведу пример. Вот участник СВО, он приходит сейчас и работает со своими сослуживцами, помогая им, или психолог, который сидит в кабинете, по книжкам пытался освоить эту профессию.
Людмила Сухова: Согласна.
Александр Терновцов: Конечно же, участник СВО будет человек, который будет более действенным. Поэтому я вот хочу вступиться, потому что в принципе вы правильно говорите. Вы не ответили на вопрос ведущего, вы не сказали, что вы психолог, вы сказали, я коучер, я специалист...
Людмила Сухова: Я – никто. Я сказала, что я не называю себя никак.
Александр Терновцов: «Я себя не называю тем именем, которое мне не принадлежит», – это очень важно.
Людмила Сухова: Конечно. Я не психолог.
Павел Гусев: А ваши услуги дорого стоят или нет?
Людмила Сухова: Так как я могу решить почти любой вопрос за 1,5 часа, моя услуга стоит 20 тысяч на сегодняшний день.
Павел Гусев: Ну...
Анна Данилова: Уважаемые коллеги...
Павел Гусев: Я думаю, что это деньги для, так скажем, среднего человека, уже деньги.
Людмила Сухова: Да.
Павел Гусев: Это не...
Людмила Сухова: Зато очень хорошо слышат люди, потому что даже сейчас, сказав о том, что я являюсь как бы никем, на сегодняшний день нет такой профессии, это говорит о том, что я, пояснив это... Вот мужчина в очках, в жилетке (к сожалению, простите, не знаю ваших имен) не услышал того, что я сказала. Я не сказала, что я ясновидящая, но вы меня не услышали.
Но когда человек платит 20 тысяч, вы не поверите, это прекрасно открывает уши и люди очень хорошо запоминают. Даже если они очень сильно «подвержены» на своих психологических качелях, они прекрасно за 20 тысяч, хорошо слышат информацию и хорошо ее усваивают, потом еще и вспоминают.
Павел Гусев: Скажите, а вы согласны, что нужно регулировать деятельность психологов?
Людмила Сухова: Да.
Павел Гусев: И это нужно делать какими методами, как вы считаете? Вот вы из этой категории – какие бы вы предложили методы регулирования и контроля за деятельностью таких, как вы, в хорошем смысле слова?
Людмила Сухова: К сожалению, это нереально сделать, потому что если создать комиссию, которая будет смотреть о том, работает моя методика или не будет работать моя методика, мы упремся в человеческий фактор, «ты мне заплати, а я решу, работает твоя методика или нет».
Мое мнение: человек должен проходить каждый свой опыт. Кто-то приходит к плохому психологу, кто-то приходит к плохому шарлатану, «инфоцыганину», который ничего не доносит, но потом в итоге они находят своего главного специалиста и получают от этого удовольствие и вылечиваются. Если человеку надо, он все равно найдет. А если мы введем закон, то половина новых инноваций, они уже не войдут в этот мир, т. е. люди будут это делать тайно.
Но закон, регулирование должно быть, но должно быть с очень большим, широким подходом, где будут смотреть, чем занимается человек, и могут ли они его ввести в категорию психологов, если он не закончил обычные, классические способы.
Анна Данилова: Да.
Павел Гусев: А не получится ли так, что такие, как вы, и многие другие, уйдут в подполье, если будет очень сильное регулирование этой ситуации? То есть вы будете... ?
Анна Данилова: Конечно, уйдут.
Людмила Сухова: Уйдут в подполье, уйдут в подполье. Потому что зачем кому-то надо будет получать образование, если проще [], если идут и так клиенты? На самом деле что ясновидящие, да, обычные, классические ясновидящие, что проститутки были всегда, и они будут всегда, к этим людям всегда будут ходить: регулируете вы их, не регулируете – к ним будут ходить.
Павел Гусев: Спасибо большое, спасибо! До свидания!
Ну что?
Анна Данилова: Да, очень интересный кейс на самом деле, который как раз-таки показывает, что внедрение в законодательной инициативе вот этих вот норм о наличии образования как нормы, стоящей во главе угла, не поможет нам повысить качество наших услуг.
При этом мне хотелось бы продолжить тему коллеги и сказать о том, что в законе уже все есть. Если мы хотим действительно отрегулировать нашу отрасль, у нас уже все есть. Например, общественные организации работают и осуществляют свою деятельность в соответствии с законом об общественных организациях. Про саморегулирование то, что мы говорим, у нас есть прекрасный 315-й федеральный закон о саморегулировании, в котором прописано все.
Единственное, что я соглашусь с коллегой, аккредитацию и членство в СРО [саморегулируемой организации] надо сделать обязательными для психологов, точно так же как это у адвокатов, строителей и т. д.
Павел Гусев: А такие, как Людмила, могут легально все получить, лицензии... ?
Анна Данилова: Такие, как Людмила... Почему я еще сказала, что это очень интересный кейс? Понимаете, мы, психологи, мы специалисты, которые все время растем, развиваемся и обучаемся. Мы – специалисты профессиональных сообществ, нам важно быть сопричастным ко всем тем процессам, выступать на конференциях, участвовать с докладами, участвовать в круглых столах. Это тоже как одна из форм развития.
И соответственно, я уверена, что если бы у Людмилы был понятный механизм входа в профессию, то через... В профессии у нас, допустим, существует четырехчастная...
Павел Гусев: В какую профессию?
Анна Данилова: Психолога, психотерапевта.
Павел Гусев: Но она как-то себя психологом особо не называет.
Анна Данилова: Смотрите, при этом она получит сейчас диплом психолога и будет себя таковым называть. Мы говорим о том, что для нормальной, для эффективной работы специалисту важно наличие образования, часы практики, личная терапия и супервизия.
И вы знаете, как показывает практика моего взаимодействия с профессиональным сообществом, вот когда ты человека помещаешь в профессиональную среду, где есть понятный вход в профессию, где есть понятные критерии, сколько часов супервизии... Я поясню, что супервизия – это наставничество такое более опытного специалиста.
Павел Гусев: А что такое супервизия? Вот это для меня тоже как-то так немножко...
Анна Данилова: Можно сказать, что это наставничество более опытного коллеги.
Павел Гусев: А, вот.
Анна Данилова: Например, в супервизию по западным стандартам можно выйти не ранее чем через 5 лет уже эффективной практики. А чтобы прийти в эффективную практику, нужно определенное количество лет провести именно...
Павел Гусев: Для психолога?
Анна Данилова: Конечно. И вот эту систему возможно выстроить только при саморегулировании и прямой работе профессиональных сообществ.
Павел Гусев: Ну а как же вот мы жили с вами 40–50 лет назад без психологов? Как мы страдали-то? Почему вот эти... ?
Анна Данилова: Да не жили мы без них никогда.
Павел Гусев: То есть были?
Анна Данилова: Конечно.
Павел Гусев: Но были вот такие?
Александр Терновцов: По-другому называли.
Павел Гусев: Как назывались? Баба-яга или как?
Анна Данилова: Гадалки, например.
Людмила Сухова: Собеседник.
Анна Данилова: Собеседник.
Андрей Зберовский: Нет, давайте понимать, что мир меняется. Если человек, скажем, 30–40 лет [назад] был окружен родственниками, друзьями, у него была поддержка, он ее чувствовал, чувствовал плечо в прямом смысле этого слова, то современный человек часто живет в другом месте [по сравнению с тем], где он родился, родственников мало, далеко, друзей мало...
Последние 5 лет мы живем вообще так, что много людей работают в онлайне, они даже своих коллег по работе физически не видят. Соответственно, эта индивидуализация, персонализация приводит к тому, что человек оказывается один с бедой, которая на него пришла, ему не с кем поделиться.
Опять же, меняются социальные слои, меняются уровни образования, и современному человеку все сложнее [найти] тех людей, с кем он мог бы поделиться одинаковым социальным опытом, одинаковыми своими информационными, что называется, потоками в голове, потому что очень все разное. Поэтому в этом смысле психолог – это такой переводчик с одного языка на другой, с мужского на женский, с одного уровня, с богатого на бедный, с образованного на необразованный. В этом смысле мы универсальные такие коммуникаторы.
Анна Данилова: Коммуникатор с реальностью.
Андрей Зберовский: Поэтому и запрос становится выше.
Но я хочу сказать другое. Вот все-таки я, позвольте, не соглашусь с мнением уважаемого очень мною коллеги, потому что я знаю огромное количество специалистов, психологов, которым не нужны супервизии, не будут они ходить на эти супервизии, потому что, собственно говоря, я знаю тех, кто и по 20 лет работает, и по 30, и они в адеквате, они отличные специалисты, и не хотят они, чтобы их обязали ходить на супервизии раз в несколько лет. Есть масса людей, которые не хотят включаться в какие-то профессиональные сообщества. У них есть образование высшее профессиональное, они раз в 5 лет повышают квалификацию.
Но я против того, чтобы мы зарегулировали совсем, завинтили эти гайки, потому что психология – это все-таки определенная наклонность, определенный склад ума, это часто люди интроверты определенные, которые не любят бегать с кем-то договариваться о внесении в реестр какой-то... Надо понимать специфику профессии.
Поэтому для меня однозначно психолог должен иметь образование или получить серьезную переподготовку на базе высшего образом. Но я подчеркиваю, что мы сегодня не говорим о научности. Психология – это наука. Мы здесь, в нашей аудитории, допускаем человека, который получает диплом психолога совершенно на основаниях, которые очень далеки от науки.
Мы требуем, чтобы психолог работал на основании личного опыта, – это неправильно! Мы не можем требовать от хирурга-онколога, чтобы он обязательно болел онкологией и только после этого мог работать, – нет. Мы не требуем от хирурга-кардиолога, чтобы он обязательно был с больным сердцем, – нет. Психолог не строится на личном опыте – психолог строится на огромном опыте миллионов людей, которые жили до него, живут одновременно с этим, мы этому и обучаем в институтах, в университетах, собственно говоря.
Поэтому вот в нашем разговоре сегодня улетает научность профессии. Астрологи, ясновидящие – ну, товарищи, давайте будем по существу говорить. Мы говорим о чем, о профессии научной или просто о способе пообщаться с людьми за деньги?
Павел Гусев: Вот я это и хочу понять, и зрители наши хотят понять, что это такое, вот это новое совершенно явление, которое охватывает сегодня массы, понимаете.
Андрей Зберовский: Есть научная психология, а есть те, кто примазываются к слову «психолог», повторю, под соусом астрологии, нумерологии, хиромантии, расстановок по Хеллингеру, родологии, ведической психологии и пр.
Павел Гусев: То есть вы хотите сказать, что есть артисты, а есть самодеятельность?
Андрей Зберовский: Совершенно верно.
Анна Данилова: Конечно.
Андрей Зберовский: И вот меня беспокоит, что в нашем сегодняшнем обсуждении и, повторю, в тех документах, которые я вижу на уровне законодательной инициативы, научность профессии психолога вымывается, обесценивается. Меня лично это очень беспокоит.
Александр Терновцов: Вы знаете, я вот здесь категорически не согласен, потому что аллегории приводятся... Все-таки психология – это медицина или не медицина?
Павел Гусев: Вот.
Андрей Зберовский: Не медицина.
Анна Данилова: Не медицина.
Александр Терновцов: Тогда зачем мы приводим примеры хирурга, который должен сначала научить[ся] оперировать, а потом только оперировать?
Андрей Зберовский: Инженер должен иметь диплом, инженер, на будущем космодроме?
Александр Терновцов: Смотрите, строитель, который берет и строит сам себе дом...
Андрей Зберовский: Сам себе – пожалуйста, а другим... Извините меня, если дом развалится – к кому вопрос?
Александр Терновцов: Хорошо, соседу построил, построил другому соседу...
Андрей Зберовский: Развалится дом, придавило соседа – вопрос к нему будут?
Александр Терновцов: Так вот смотрите, я же вам объясняю, что для того, чтобы человек взялся за это строительство, он должен иметь доступ к этой профессии, я же сейчас об этом говорю. Только с другой стороны вы утверждаете, что «договор я заключать не хочу», потому что этот договор размоет...
Андрей Зберовский: ...анонимность.
Александр Терновцов: ...анонимность. Так, извините, договор помимо этого еще будет обязывать вас не распространять эти сведения. Давайте подумаем о человеке, который обращается. Завтра психолог или так себя называющий берет и распространяет в соцсетях эту информацию – и что на него распространяется? Общие положения Уголовного кодекса, «Распространение личных данных».
Анна Данилова: Да.
Александр Терновцов: Поэтому я категорически не согласен, что мы должны исходить из того, что сравнивать эти профессии.
Я бы больше сравнил, допустим, с юристами. Вот у нас каждый юрист получил профессию, образование, вернее, затем юрист получает статус: адвокат – значит, он имеет круг определенных полномочий, нотариус – значит, он может совершать определенные нотариальные действия; прокурор, который может защищать интересы граждан. Он имеет доступ к другой же профессии.
Так вот саморегулирование позволит, если сами психологи напишут... Хотя бы начать с того, что нужно написать Кодекс этики.
Анна Данилова: Он есть.
Павел Гусев: Вот это интересно.
Александр Терновцов: Он есть, но для кого он обязателен?
Анна Данилова: Подождите, пожалуйста, он есть.
Александр Терновцов: А для кого он обязателен?
Анна Данилова: Спасибо большое вам за этот вопрос, потому что это невероятно важная тема.
Например, в профессиональных крупных сообществах, РПО, ОППЛ, свою деятельность действительные члены нашего профессионального сообщества осуществляют в соответствии с этическим...
Павел Гусев: А что это за аббревиатуру вы назвали вот такую?
Анна Данилова: Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига.
Павел Гусев: Вот, это важно.
Анна Данилова: Либо Российское психологическое общество, это вот сейчас такие крупнейшие две организации профессиональные.
Так вот, свою деятельность члены этих организаций, и они подписываются там, они осуществляют в соответствии с этическим кодексом профессии.
Александр Терновцов: А при несоблюдении?
Анна Данилова: При несоблюдении – при нарушении этического кодекса?
Александр Терновцов: Да. Что бывает, если он нарушил?
Павел Гусев: Вот что?
Александр Терновцов: Какие последствия для него?
Павел Гусев: Последствия какие? Я согласен.
Александр Терновцов: Он что, лишается доступа к профессии? Его наказывают за это административно или дисциплинарно? Что после этого?
Анна Данилова: Я согласна с тем, что механизмы имеет смысл дорабатывать, а не обесценивать весь тот опыт, в т. ч. и регулирования, который у нас есть, и переделывать систему полностью.
Павел Гусев: Они хотят зарабатывать деньги.
Александр Терновцов: Все верно.
Анна Данилова: Ведь система есть, она работает.
Александр Терновцов: Я же не против системы – я говорю о том, что надо общее правило для всей системы.
Анна Данилова: Это то, о чем я говорила, – у нас не является членство обязательным.
Александр Терновцов: Смотрите, у вас, у уважаемых организаций, все это есть, а у другой, менее уважаемой организации, этого нет. И вот я с вами категорически не соглашусь.
Вы говорите, сейчас законодательное поле позволяет регулировать эту деятельность. Когда только мы берем закон о некоммерческих организациях, он регулирует деятельность по созданию и деятельность некоммерческих организаций, он не внедряется в ту сферу, в которой они осуществляют деятельность. Я написал в уставе и все, этого будет достаточно. Поэтому специальный закон позволит придать регулированности вашей сфере, это первое.
Второе: я все-таки выступаю на стороне людей, которые не являются изощренными и познающими все тонкости. Вот сейчас у 90% граждан, психолог – это врач или не врач, 50% ответят, что это врач, потому что так у нас это мудрено...
Павел Гусев: Я думаю, скажут даже больше.
Александр Терновцов: Может быть, и больше, но я просто не проводил такого опроса, поэтому так и предположил, что 50 на 50. В этой связи, когда мы каждую профессию начинаем называть своим именем, если ты юрист, это ты получил диплом, а если ты адвокат, ты получил удостоверение.
Павел Гусев: Удостоверение.
Александр Терновцов: И если ты называешься каждым своим именем, то для человека понятно, кто передо мной.
И в этой связи я считаю, что вот опять-таки законодательство, но только саморегулирование. Как только мы сейчас отдадим какому-нибудь министерству очередному регулировать эту сферу, то мы получим, как правильно вы сказали, большую сферу нелегальной деятельности.
Анна Данилова: «Серого», теневого рынка.
Павел Гусев: Андрей Викторович, вот вы молчите сейчас, слушаете – я чувствую, у вас какая-то интересная есть позиция.
Андрей Зберовский: Вы знаете, мне очень грустно наш сегодняшний разговор воспринимать.
Павел Гусев: Вот.
Андрей Зберовский: Потому что я понимаю, что нашему обществу нужны психологи профессиональные, хорошие, с совестью, с честью, с научным образованием, с научной картиной мира, между прочим.
Понимаете, беда в чем? Беда в том, что хорошие специалисты обычно не идут на сделку с совестью, не идут ни с кем договариваться: вот их зажимают – они уходят из профессии. Я боюсь, что тот закон, который сейчас мы обсуждаем... Я надеюсь, что он будет все-таки изменен и будет профессиональное сообщество услышано... Этот закон, который обсуждают сейчас, он не решает главной, с моей точки зрения, задачи – научности понятия «психолог».
Психолог не врач, никто никогда не пытался быть врачами из психологов, собственно говоря. Психолог – это гуманитарная профессия, педагог-психолог, который в госвузах у нас, в т. ч. есть такая специальность в дипломе. И в этом плане эти люди должны работать, подчеркиваю, понимая, что слово «психолог» равно слову «научный специалист». Вот этого нет в законе. В законе не написано, что психолог – это человек, осуществляющий профессиональную деятельность на научной основе.
Павел Гусев: Но в естественных науках даже нет такой... ну, в гуманитарных науках... даже нет понятия психолог, понимаете, в чем дело. Нет такого понятия. Спорят, что это такое.
Андрей Зберовский: Секундочку. У нас есть доктора психологических наук, кандидаты психологических наук. Если Академия наук наша нас услышит, она будет в шоке от нашего разговора. В Академии наук есть психологи, есть доктора наук, признанные ВАК, Высшей аттестационной комиссией Министерства образования? Есть.
Поэтому, извините меня, психолог – это человек от науки, от образования, и поэтому ставить психолога наряду с ясновидящим или с человеком, получившим свой личный опыт какой-то... Да на здоровье, что он получил личный опыт, молодец, я за него рад, пускай себе помогает, но психолог учится работать с людьми, разными людьми.
Павел Гусев: Это да.
Андрей Зберовский: И это обучение, которое требует очень широкого научного основания.
Александр Терновцов: Вы знаете, это... Опять-таки, вот что ж вы так к личному опыту плохо относитесь?
Андрей Зберовский: Сводить к этому нельзя. Я хорошо отношусь, но нельзя к этому сводить.
Александр Терновцов: Еще не известно, какая женщина даст другой женщине лучший совет, если она три раза сама побыла в браке и развелась, она знает о семейной жизни и семейные ценности, поэтому еще не известно, кто даст лучший совет.
Вопрос же... Мы исходим из того, человек за чем обращается и что он получает. Если он получает научную книжку, которому зачитали все тяжелыми словами, он не воспримет это. Уровень осведомленности, образования у всех разный. Поэтому то, что психология – это наука или не наука, это, наверное, спорить надо не в студии или там, где принимается или не принимается закон, а это надо спорить в Академии наук.
Но опять-таки, я исхожу из того, что если мы исходим, что человек с опытом – это психолог, я категорически против. Человек с опытом – это человек с опытом, который может этим опытом делиться. И вот наша героиня, которая присутствовала, она не назвала себя психологом.
Павел Гусев: Ни разу.
Андрей Зберовский: Только она диплом получит и будет психологом.
Александр Терновцов: А может быть, будет еще и хорошим психологом, раз получит диплом...
Андрей Зберовский: Может.
Александр Терновцов: ...имея прекрасный жизненный опыт.
Андрей Зберовский: Да, но с ее отношением к этому как к корочке...
Александр Терновцов: Но опять-таки, если мы исходим из того, что она не называет себя психологом, коучер, наставник, как угодно, медиатор, может быть... но опять-таки, медиатор – это деятельность тоже регулируемая... Так вот если она себя не называет психологом, слава богу, пусть занимается.
А с точки зрения, что психологом должен быть человек, который имеет определенное образование и состоит в определенной саморегулируемой организации, – это я категорически поддерживаю здесь коллег.
Павел Гусев: Скажите, вот мы сейчас с вами говорим, спорим, что-то доказываем, говорим, что это нужно. Но посмотрите, сейчас какие громкие уголовные дела проходят, и фамилии эти известны...
Андрей Зберовский: Это никого не пугает и не останавливает, поверьте мне.
Павел Гусев: Почему?
Анна Данилова: И дипломы там есть, кстати, о высшем образовании.
Андрей Зберовский: Потому что, если посмотреть в интернете, во-первых, да, масса людей, которые сейчас там фигурируют, у них есть образование высшее, а во-вторых, интернет переполнен...
Павел Гусев: Подождите, они в тюрьме сидят, дама эта сидит в тюрьме.
Александр Терновцов: Они в тюрьме сидят за то, что они обещают результат, понимаете.
Андрей Зберовский: Они за налоги сидят.
Анна Данилова: За налоги, не по профессии.
Александр Терновцов: За налоги, за результат, когда они говорят...
Павел Гусев: Значит, эта деятельность все равно не регулируется государством?
Александр Терновцов: Совершенно верно.
Павел Гусев: Если налоги не платят, если собирают деньги черными мешками и отправляют за границу?
Александр Терновцов: Нет, на самом деле они там платили что-то, ведь они были ИП, но они дробили бизнес и платили минимальные налоги.
Но если исходить из того, что они обещали, то, если посмотреть, они обещали результат – ну не может человек обещать результат. Вот если ты приходишь к адвокату, который тебе обещает 100%, что он выиграет дело, и пишет это в договоре, то это мошенничество будет.
Поэтому в данном случае очень важно, чтобы мы прекрасно понимали, что результат никто не гарантирует, и в договоре должно быть это прописано, поэтому я сторонник договора.
Павел Гусев: Слушайте, разве, когда психолог принимает клиента, говорит «здравствуйте, я вам помогу» или еще что-то, он все равно привлекает и завлекает, объясняет, что результат будет, – значит, он все-таки что-то говорит? Он врет, или он вводит в заблуждение человека? Или же вот это ла-ла-ла, ла-ла-ла, заговаривает его так, что человек выходит, старушка, пожилой человек или молодая женщина, и у нее в голове сумбур?
Андрей Зберовский: Психолог на основании своих энциклопедических знаний, полученных в процессе серьезного образования, серьезной практики, в т. ч. под руководством профессиональных специалистов, человеку, во-первых, объясняет, помогает понять его собственные мотивы, он помогает человеку стать понятнее самому себе, это раз. Во-вторых, он предлагает широкий ассортимент действий, которые люди в подобных ситуациях могут, собственно говоря, предпринимать, оставляя за человеком, безусловно, полную свободу выбора принятия своих решений.
То есть в этом плане информационная, морально-этическая [составляющая] и поддержка, т. е. это комплекс действий, это не одно какое-то действие – это комплекс действий, который, безусловно, помогает человеку понять себя, оценить ситуацию, восстановить свой баланс рациональности...
Потому что человек, к сожалению, оказавшись в ситуации стрессовой, часто теряет просто разумное состояние, у него т. н. эффект туннельного зрения, когда он не понимает совсем, что происходит... Поэтому мы его из этого состояния выводим, повышаем уровень осознанности, осмысленности его поведения, понимания себя, своих интересов, понимания партнера или людей, с кем он находится в конфликте или, собственно, ситуацию, где он кого-то потерял, и предлагаем ему набор инструментов по решению ситуации.
Что он выберет? Он может ничего не выбрать. Вот как врач человеку выписывает таблетки, он может их в унитаз выкинуть. Но мы человека снабжаем знаниями, поддержкой и уверенностью его в самом себе, в своей разумности. Это неплохой багаж.
Я подчеркиваю, с моей точки зрения, уж простите за мою настойчивость, это лучше, чем когда человеку объяснят, что «это звезды тебе так сделали», или «твоя судьба», или, соответственно, «твоя прабабушка не так себя вела в этой жизни», или вообще «в другой жизни ты был кошкой или Клеопатрой» – ну вот так нельзя. А к сожалению, сейчас, повторю, главная проблема – сейчас слово «психолог» стоит наравне с людьми, которые применяют ненаучные, совершенно оккультные, мистические действия.
Павел Гусев: Ну да...
Андрей Зберовский: И пока эту проблему в нашем обществе никто не решает.
И второй вопрос. У нас до тех пор, пока... То есть нам смешно и странно принимать законы о психологической помощи тогда, когда идет огромное количество шоу экстрасенсов, ясновидящих, колдунов, магов и т. д. и т. п., которые в принципе показываются людям как эффективные специалисты, которые лучше, чем какие-то там дипломированные психологи, состоящие в разных всяких специализированных профессиональных сообществах.
Павел Гусев: Ну да. Даже уже вылезают те, кто давно были забыты.
Скажите, вот вы представляете в Общественной палате гражданское общество, я сам когда-то был в Общественной палате, мы много там и говорили, и спорили, и там очень здравый смысл высказывается на многие вопросы и по многим темам. Вот этот вопрос для гражданского общества, Общественная палата как-то будет будировать дальше? Или вы будете просто или поддакивать, или в дежурном порядке рассмотрите, что это нужно рассмотреть, сказали – рассмотрите?
Александр Терновцов: Общественная палата достаточно большая...
Павел Гусев: Да, конечно.
Александр Терновцов: Она представляет все регионы России.
Павел Гусев: Естественно.
Александр Терновцов: И я считаю, что это наилучший представительный орган гражданского общества, потому что и часть назначается президентом...
Павел Гусев: Да-да, мы это знаем все.
Александр Терновцов: ...часть – регионы, часть – представители некоммерческих организаций, поэтому спектр очень широкий. И мнение, как вы правильно сказали, оно не единое, там и мнения разные ходят внутри Общественной палаты.
Павел Гусев: Ну вот по этой теме.
Александр Терновцов: Есть инструментарий прекраснейший у Общественной палаты – это проведение общественной экспертизы законопроекта.
Павел Гусев: Это правильно.
Александр Терновцов: Когда касается законопроект социальной группы, социальной категории граждан, можно готовить заключение, собирать нулевые чтения, проводить обсуждения и готовить свою позицию. И в этой позиции уже зафиксируется мнение уже Общественной палаты, потому что оно исходит уже от Общественной палаты, не от конкретного человека.
Поэтому, безусловно, если... Сейчас мы пока находимся на начальной стадии законопроекта, потому что я так предполагаю, что и коллеги уже будут включаться...
Павел Гусев: Но все-таки это уже четвертая или пятая попытка внести что-то разумное или безумное, может быть...
Александр Терновцов: Было бы очень правильным на базе Общественной палаты провести общественную экспертизу данных законопроектов. Но тогда нужно определиться, какой из них.
Анна Данилова: Из многообразия выбрать.
Александр Терновцов: Из многообразия. Надо хотя бы, чтобы Дума сейчас определилась, по какому закону они будут работать, двигать и обсуждать у себя в стенах Государственной Думы, а мы, соответственно, включимся уже со стороны Общественной палаты и готовы по нему провести общественную экспертизу с приглашением профессионального сообщества.
Павел Гусев: Ну естественно.
Анна, вот вы считаете, то, что сейчас идут вот эти споры, обсуждения, – они все-таки приведут к какому-то единому [мнению], или это будет такой жестко, знаете, скоординированный закон, сделанный людьми, которые...
Анна Данилова: ...не имеют отношения к этой профессии, специфике?
Павел Гусев: ...может быть, не имеют отношения, и для них главное – рамки закона, послушание и квадрат, где этот... ?
Анна Данилова: Вы так хорошо сейчас охарактеризовали концепцию. Дело в том, что я начала с этого, что не просто так история создания законопроекта длится более 20 лет.
Павел Гусев: Боже мой, 20 лет не могут принять закон о психологах.
Анна Данилова: Да.
Но, вы знаете, уважаемые коллеги, эта тема сегодня по касательной была затронута, а мне хотелось бы к ней вернуться, потому что... Вот давайте порассуждаем, наверное.
Многочисленные научные исследования доказывают, что лучший психолог для комбатанта – это такой же военнослужащий, имеющий опыт боевых действий. Соответственно, то время, в которое мы живем, нам понадобится в ближайшее время огромное количество психологов, и военных, и гражданских.
Я уже неоднократно, на протяжении долгого времени выступаю за выстраивание позиции «равный – равному». Чтобы выстроить эту позицию, нам нужно взять участников боевых действий, например, Афганистана, Первой чеченской, Второй чеченской [войн], из Сирии у нас ребята приехали, и обеспечить их кратким курсом, дающим первичные навыки и первичные знания для оказания... скажем так, я сейчас немного «облачно» это назову... первичной психологической помощи, которая позволит снять стигматизацию и страх, вот этот барьер обращения дальше к психологу.
И вот у меня возникает логичный вопрос. У нас нет физически и социально 5 лет всех этих ребят пропустить через высшие учебные заведения для выдачи диплома психолога. Что нам делать? Ведь их работа будет незаменима.
Александр Терновцов: А зачем им диплом?
Павел Гусев: Что нам делать? Что юристы скажут нам?
Александр Терновцов: А зачем им диплом?
Анна Данилова: Смотрите, здесь же история в том, что они будут оказывать психологическую помощь, или как это будет называться?
Александр Терновцов: Смотрите, давайте так, они хотят помочь своему сослуживцу либо тем, кто рядом с ними был в окопе и помогал им защищать Родину, плечом к плечу.
Павел Гусев: Но есть еще люди, которые пережили ужасы этого...
Александр Терновцов: Которые пережили ужасы.
Павел Гусев: Сейчас в той же Курской области.
Александр Терновцов: Конечно-конечно.
Павел Гусев: Те области, где мы освобождаем, – там тяжелая ситуация.
Александр Терновцов: И вот в Курской области, вот вы привели пример, 113 тысяч людей, которые вынужденно покинули свои дома.
Павел Гусев: Совершенно верно.
Александр Терновцов: И они друг друга поддерживают. Вы бы видели, они ходят друг к другу в гости, общаются...
Анна Данилова: А это является психологической поддержкой, помощью или нет?
Александр Терновцов: Я не представляю себе психолога, который придет и скажет: «Я пережил то же самое, поэтому я тебя понимаю». Поэтому зачем этим людям называться психологами?
Анна Данилова: А как? Их нужно... Понимаете, я сейчас говорю...
Павел Гусев: А на каком основании они будут встречаться?
Анна Данилова: Вот именно. Я говорю о масштабах.
Александр Терновцов: Клубы, сообщества, единомышленники – как у нас создаются сообщества? Почему нет?
Анна Данилова: А госпитали?
Александр Терновцов: В госпиталях то же самое. Почему им нужно обязательно называться психологами?
Анна Данилова: Нет, я не говорю об этом.
Александр Терновцов: Вот вы пытаетесь, чтобы всех под эту профессию.
Анна Данилова: Потому что как мы тогда здесь, например, защитим население от мошенников?
Александр Терновцов: Хорошо, если человек помог одному, второму, третьему, но при этом он строитель и идет дальше работает строителем?
Анна Данилова: Вот я про это и спрашиваю: что мы считаем психологической помощью? Перед тем как решать, как ее может оказывать, давайте сначала разберемся в тезисах, а что мы считаем психологической помощью.
Павел Гусев: Это очень, очень, очень важно.
Анна Данилова: А ведь действительно, история знает такие примеры, когда люди, не относящиеся в принципе к этой профессии, оказывали [эту помощь].
Андрей Зберовский: На самом деле вы ставите очень правильную, очень актуальную задачу, вы правильно [делаете], что об этом говорите в этот очень важный для нашей страны момент.
Но я хочу сказать, что даже в том проекте закона, который есть, и другие проекты, которые я видел, где прописывается, что необходимо, подчеркиваю, либо высшее психологическое образование полноценное университетское, бакалавриат, магистратура, либо специалитет, если мы к нему вернемся до конца, либо, соответственно, полноценная дополнительная профессиональная переподготовка на основании высшего образования.
Анна Данилова: Переподготовка, да.
Андрей Зберовский: Вот я могу прямо сказать, что я от общества «Знание», которое я глубоко уважаю, я в нем лектор, я выезжал в Донецк, в Луганск, в Мелитополь, и могу сказать, что сейчас на фронте уже много парней, в т. ч. имеющих высшее образование другое, инженерное, экономическое, юридическое, разное, которые уже сейчас готовы пройти курсы переподготовки за месяц-два, полгода, профессиональное, которое будут вести профессиональные люди. Они готовы, когда у них закончится срок контракта, пойти работать, соответственно, в те программы, о которых вы говорите, которые нужны, которые сейчас Министерство обороны делает, Анна Цивилева запускает, соответственно, в очень правильных, нужных, важных местах...
Павел Гусев: Очень точные делает дела.
Андрей Зберовский: Поэтому на самом деле инструменты уже сейчас есть.
И, пользуясь случаем, мы можем пожелать, я думаю, от всех нас, и от Общественной палаты, и от вас как специалиста из сообщества такого большого о том, что, конечно, нам нужны военные психологи. И те ребята, которые сейчас на фронте или которые пришли с фронта, безусловно, мы ждем их в наше профессиональное сообщество, во все разные возможности профессиональные, для того чтобы они, конечно же, помогли. Потому что, безусловно, воина, офицера боевого лучше всего поймет человек, имеющий реальный боевой опыт.
Анна Данилова: На первичном этапе, да.
Андрей Зберовский: И поэтому мы, конечно, поддержим, поможем. Поэтому, пользуясь случаем, давайте мы их поддержим всех. Мы ждем их в профессии, мы ждем их с гораздо бо́льшим желанием, чем астрологов, нумерологов, извините меня, колдунов и ясновидящих.
Павел Гусев: Да.
Вы знаете, всему есть всегда, знаете, [конец]. Вот у нас с вами завершение нашей программы. Хотелось бы задать вам еще маленький вопрос: а как мы с вами все-таки будем называть людей, которые самоучки, от природы у них дар, и они учиться не хотят? У них от природы дар помогать людям и видеть психологические сложности человека.
Андрей Зберовский: Пускай будут консультанты, пускай будут советники, помощники, эмоционально поддерживающие люди – много слов в нашем великом и могучем русском языке, которые опишут эту деятельность, полезную, нужную, не попадая на поле официальное нашей работы психолога.
Павел Гусев: Ну что ж, интересная вышла беседа, благодарю вас!
Желаю нам всем, чтобы если и понадобится помощь психолога, то специалист оказался бы высококлассным. На этом прощаемся.
С вами был я, главный редактор «МК» Павел Гусев. Увидимся через неделю.