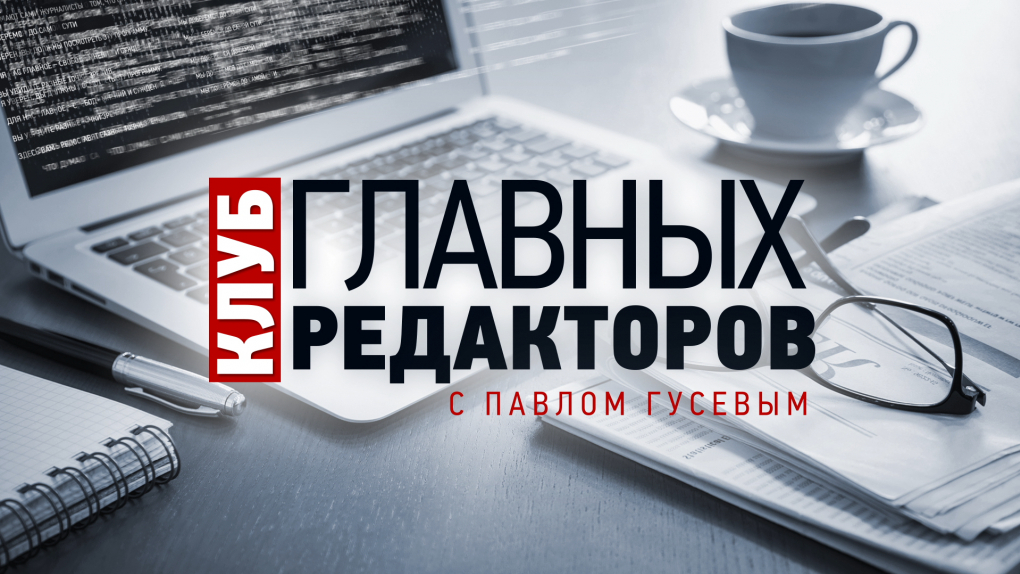Волонтеры наших дней
https://otr-online.ru/programmy/klub-glavnyh-redaktorov/volontery-nashih-dnei-94196.html 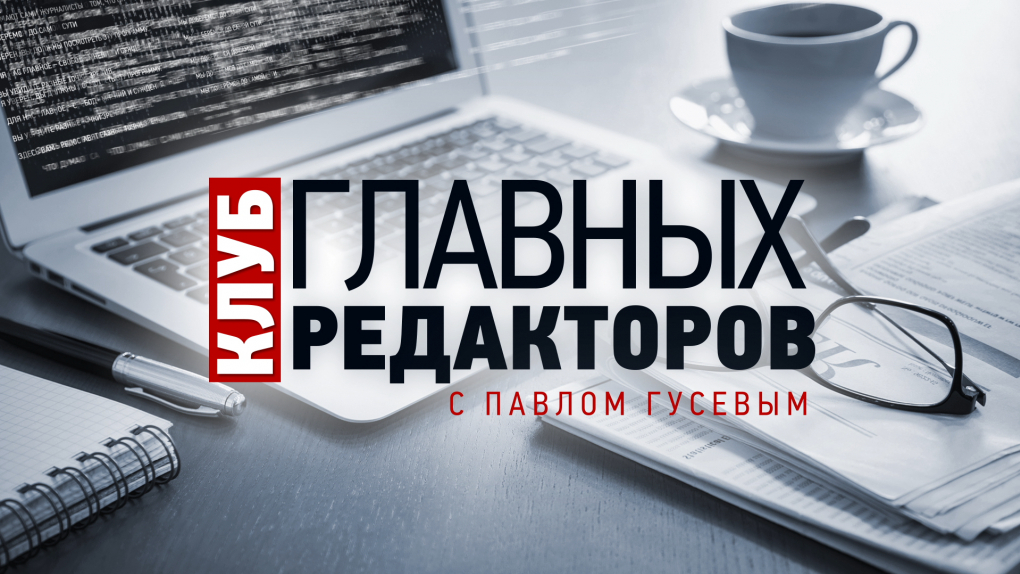
Павел Гусев: Здравствуйте! Я Павел Гусев, и это «Клуб главных редакторов».
Сегодня в «Клубе» мы поговорим о деятельности, которая, скорее всего, находит отклик у любого человека, причем отклики эти исключительно положительные. Честно, я не знаю никого, кто бы отрицательно относился к людям, которых сегодня называют волонтерами.
СЮЖЕТ
Голос за кадром: «Мир не без добрых людей», – так издавна говорят на Руси, ибо, когда случается беда, всегда найдутся люди, которые придут на помощь по своей исключительно доброй воле.
В деревнях с древности существовали особые ритуалы помощи, которые называли «помочи». Государство, собственно, тоже не оставалось в стороне: еще в 988 году по указу князя Владимира малоимущим выдавали рядом с княжескими резиденциями еду и деньги. Добровольчество поддерживали многие русские правители. В 1840-х гг. в России появились первые сестры милосердия. Ну а само слово «волонтер» в русском языке закрепилось только к концу XIX века.
В середине XX века появляется повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», которая дала старт одному из самых мощных добровольческих, или волонтерских, движений в Советском Союзе. В конце 1950-х гг. стали появляться дружины по охране природы, возникло поисковое движение красных следопытов, которые помогали сохранить память о Великой Отечественной войне, формировались добровольные народные дружины, членами которых в середине 1980-х гг. было порядка 13 миллионов человек. Большую популярность приобрели и добровольные студенческие объединения, студотряды.
Разумеется, не все было гладко и, например, то же добровольно-принудительное участие в субботниках во времена СССР вряд ли можно было занести в плюс развитию волонтерского движения. Но тем не менее волонтеры продолжали и продолжают свою непростую, а порой очень трудную деятельность исключительно по доброй воле.
Павел Гусев: Итак, гости нашей студии:
Матвей Масальцев, заместитель председателя совета ассоциации «Добро.рф»;
Юлия Назарова, начальник управления сопровождения волонтерской деятельности ресурсного центра «Мосволонтер»;
Кирилл Родин, социолог, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ.
Итак, волонтеры. Это нелегкий труд, зачастую совсем не оплачиваемый. Что же, по-вашему, толкает людей на эту стезю? Давайте вот здесь мы с вами немножко порассуждаем.
В России 140–150 миллионов проживает, а волонтеров чуть меньше, до 10, если я не ошибаюсь, не дотягиваем даже. Это, знаете, такие подсчеты, в жизни может быть гораздо все больше... Пожалуйста, кто хочет начать?
Матвей Масальцев: Я могу начать.
Павел Гусев: Давайте-давайте.
Матвей Масальцев: Во-первых, действительно, в жизни чуть больше. Если смотреть на статистику «Добро.рф», это продукт ассоциации «Добро.рф», где большое количество волонтеров регистрирует свой опыт, там действительно 9 миллионов зарегистрированных человек. Но социология говорит, что сейчас себя называют добровольцами более 30% людей, ассоциируют с ними.
Павел Гусев: Вот так.
Матвей Масальцев: А вообще, безвозмездно помогают разными способами еще больше людей, до 75%, как-то иначе, не только временем как волонтеры.
То есть на самом деле их очень много, но значительное количество (половина по разным опросам) помогает самостоятельно, без всяких институций, без всяких регистраций, не очень доверяет официальным институциям и предпочитает самостоятельно что-то делать доброе для других людей. Такой разброс есть, т. е. на самом деле их гораздо больше, чем 10 миллионов.
Павел Гусев: Скажите, вот слово «волонтер» откуда произошло само по себе? По-моему, это не русское слово, это иностранное слово. Почему вот это добро, которое... ? Вообще, знаете, у русского человека душа всегда к добру тянется, и вот принципы русского человека (я под русским российского подразумеваю) – это всегда добро делать людям в целом. Откуда это слово-то, «волонтер»? Чье оно? Откуда? Кто принес-то нам его?
Матвей Масальцев: Принесли, конечно, его из Франции, в XIX веке стали употреблять в России в этом смысле. Но, разумеется, у нас даже в законе сейчас «доброволец (волонтер)» или «волонтер (доброволец)», это абсолютно равные понятия. Одно из них устоялось с тех пор, как в XIX веке впервые начали называть людей помогающих волонтерами, используя иностранное слово, а доброволец совершенно так же употребляется в русском языке.
Единственное, вот почему два слова остались, как мне кажется? Часто добровольчество, был какой-то период, ассоциировалось исключительно с добровольцами, идущими на фронт, с определенным действием, тоже по доброй воле, но идущие на определенное действие. Слово «волонтер» чуть шире понималось, поэтому, наверное, эти два понятия остались.
Но сейчас, как мне кажется, все больше и больше мы возвращаемся к русскому слову «доброволец», его чаще используем, и «добро», поэтому платформа «Добро.рф» называется.
Павел Гусев: Но тем не менее... Да, пожалуйста.
Юлия Назарова: Наверное, я хочу добавить. В волонтерском сообществе разделения между добровольцем и волонтером не существует.
Павел Гусев: Вообще не существует.
Юлия Назарова: То есть правильно коллега говорит о том, что это идентичные понятия, которые волонтеры сами не разделяют, т. е. они считают себя и волонтерами, и добровольцами. Поэтому оба слова вполне возможны для использования.
Павел Гусев: Это хорошо, но это мы по грамматике сейчас с вами [разобрались], что, как, чего называется. Ну а все-таки вот ваша позиция по поводу того, что сегодня в России происходит именно с этим движением волонтеров? Вот я видел, когда цифры приводил, сколько может быть, вы со мной так, не очень даже соглашались, вы говорите: «Побольше, побольше».
Юлия Назарова: Нет, я согласна. Вот могу сказать на примере Москвы.
Павел Гусев: Да, пожалуйста.
Юлия Назарова: В Москве более 1,5 миллиона человек включены в волонтерскую деятельность. И если говорить, например, о портрете волонтера, т. е. кто этот человек сейчас, вот на сегодняшний день, то на самом деле здесь нет никакой привязки к возрасту, потому что волонтерами могут быть совершенно люди разного возраста. И на примере Москвы: в волонтерском сообществе есть люди, которые школьники, это, как правило, 12–14 лет...
Павел Гусев: Ну понятно.
Юлия Назарова: ...и есть серебряные волонтеры, это люди, которые 55+, они также активно включены в волонтерскую тематику.
Павел Гусев: Подождите, откуда это взялось, «серебряные»?
Юлия Назарова: Серебряные волонтеры – так называют тех волонтеров, у которых возраст, граница 55+.
Павел Гусев: Я в первый раз об этом слышу.
Юлия Назарова: Вот, теперь будете знать, что так называется.
Павел Гусев: Да, и не только я буду знать.
Юлия Назарова: И наши телезрители тоже.
Матвей Масальцев: Вполне себе официальное движение.
Юлия Назарова: Да, официально закрепленное.
Матвей Масальцев: Есть целое движение федеральное, называется федеральная программа «Молоды душой», вот это программа по развитию серебряного добровольчества в Российской Федерации, прямо так и написано.
Павел Гусев: А вот это вот движение и программа «Молоды душой» – это откуда? Кто привнес ее, откуда она появилась?
Матвей Масальцев: Она появилась из инициативы, скажем так, снизу, из нескольких регионов, где уже развивались группы волонтеров старшего возраста, в частности, Петербург был одним из застрельщиков и еще несколько регионов, и постепенно стала федеральной. Управляют этой программой сейчас благотворительный фонд «Внуки» (фонд помощи пожилым людям) и ассоциация «Добро.рф» вместе с другими партнерами: Минтруд, Росмолодежь... То есть очень много организаций федеральных и региональных в это включены, и практически по всей стране есть прямо центры развития серебряного добровольчества. Вот один в «Мосволонтере», в частности.
Юлия Назарова: Да, на территории Москвы тоже это активно.
Павел Гусев: А ваша позиция? Я чувствую, вы слушаете внимательно.
Кирилл Родин: Позиция есть.
Вы в т. ч. правильно как раз сказали, что и в терминах кроется некоторый дьявол. Это действительно так, потому что люди не всегда понимают, что они в силу воли случая, скажем так, стали волонтерами. То есть для них для многих это некоторое официальное такое обозначение: «Ты – волонтер». То есть человек на самом деле может регулярно помогать своей пожилой соседке по лестничной клетке покупать продукты, но он никогда не думает, что на самом деле он оказался волонтером.
Павел Гусев: А вот это действительно интересно очень. То есть, по сути дела, это то, о чем вы начали говорить, что сегодня говорить о том, что 5, 9 миллионов или сколько-то, достаточно сложно, это условно...
Кирилл Родин: Как считать.
Павел Гусев: Как считать. Если у меня в подъезде бабушка живет, соседка, я вижу, что она плохо ходит, ей тяжело, я сказал: «Марьиванна, хлебушка купить вам?» – «И еще колбаски», – она говорит. Я пошел ей купил – я не знаю, это волонтерство или нет...
Матвей Масальцев: Да.
Павел Гусев: Но то, что ты делаешь добро, то, что ты помогаешь...
Кирилл Родин: Безвозмездно.
Павел Гусев: Безвозмездно, конечно же, безвозмездно. Ну, конечно, приятно, когда Марьиванна потом скажет: «Спасибо, Павел Николаевич, спасибо, дорогой! Как я рада, что вы мне помогли сегодня хлебушка свежего купить!»
Кирилл Родин: И вот в этом плане, когда мы перечисляем, скажем так, некоторую номенклатуру действий, которые мы можем отнести с той или иной степенью к волонтерству, начиная вот от помощи соседке и заканчивая субботниками, чем угодно, то у нас действительно получается 70 с лишним процентов людей, которые так или иначе эти действия в течение последнего года совершали. То есть в принципе, наверное, мы можем сказать, что с той или иной долей усердия порядка 70% наших с вами соотечественников стали в силу судьбы волонтерами.
А когда мы дальше спрашиваем людей: «Вы в этом году (скажем так) волонтерили или нет?», то у нас эта цифра как раз падает где-то до 30% с чем-то... 34%, что-то типа того – неважно, до трети... что нам и говорит о том, что люди не всегда понимают, что они совершают вот эту волонтерскую деятельность.
И вот в плане в т. ч. отношения к волонтерам, здесь мы тоже можем увидеть, что российское общество за последнюю уже теперь четверть века фактически совершило большой рывок в общественном сознании.
Павел Гусев: А почему?
Кирилл Родин: Почему? Я думаю, что это последствие планомерной государственной политики.
Павел Гусев: Четверть века, вот вы говорите. Четверть века – это новая наша Россия, так?
Кирилл Родин: Да.
Потому что если мы с вами посмотрим, отнесемся ближе к 1990-м и к началу 2000-х гг., даже просто сами себе зададим вопрос, часто волонтеры воспринимались как достаточно странные люди, которые совершают странные действия, т. е. они где-то были на периферии общественной деятельности, а сегодня это центральное, достаточно большое течение.
И вот за те последние годы, в которые действительно работа была проведена (это не случайность, это действительно вопрос централизованной государственной политики), у нас волонтерство стало одной из форм, скажем так, маркером уважения в обществе. И отсюда у нас есть два важных...
Вы тоже задавали вопрос, собственно говоря, почему люди это делают, зачем им это надо. Когда мы смотрим на мотивацию, скажем так, выделяются два достаточно крупных блока. Во-первых, это ценности: люди начинают разделять ценности волонтерства, безвозмездной помощи...
Павел Гусев: Вот это интересно, очень важно.
Кирилл Родин: Там действительно достаточно большое количество акций, я думаю, коллеги лучше меня расскажут о той системной работе, которая проводится.
И второй момент: для многих это является моментом самоактуализации, вот действительно как-то спозиционировать себя в обществе.
Павел Гусев: Вы хотели что-то... ?
Юлия Назарова: Да, я хотела добавить вот как раз к контексту времени, когда происходит подъем волонтерского движения. Наверное, основной отправной точкой 2000-х гг. является Олимпиада в Сочи в 2014 году, потому что вот Олимпиада, большие, крупные соревнования, которые происходили в России...
Павел Гусев: Да, тогда как раз волонтеров там было невероятное количество.
Юлия Назарова: Да. И тогда волонтеры – это огромное количество людей, которые помогали на разных совершенно функциях: на навигации, на встрече спортсменов, на сопровождении делегаций. И вот в волонтерском сообществе считается одним из подъемов именно Олимпиада в Сочи, где впервые, наверное, громко заявили на всю страну о том, что волонтеры – это важно и без волонтеров не может состояться ни одно крупное событие, которое проходит в стране.
Павел Гусев: Очень интересно!
Матвей Масальцев: Тут я тоже добавлю.
Мне кажется, было даже два течения. Одно из них, условно говоря, от некоммерческих организаций, организаций, которые решают какие-то проблемы общества. Они начали привлекать волонтеров как появились, прямо с 1990-х гг., и к 2010-м гг. тоже достигли большой массы. Например, одним из катализаторов стали разные ЧС, которые случались в России в то время: пожары большие, наводнения...
Павел Гусев: Да.
Матвей Масальцев: Очень много людей прямо собиралось на Воробьевых горах и с гумпомощью ехало. И одновременно действительно Олимпиада, когда на волонтеров обратило внимание государство.
И вот эти два движения столкнулись вместе, смешались и оба, вместе дали большой, такой вот резкий толчок с 3% до 30%. В 10 раз за 10 лет последних выросло количество людей, которые себя называют волонтерами.
Павел Гусев: Ничего себе! Вот это да!
Матвей Масальцев: У нас в Конституции Российской Федерации закреплена поддержка добровольчества на все годы вперед.
Павел Гусев: Да.
Матвей Масальцев: У нас беспрецедентные меры поддержки со стороны государства, с одной стороны. С другой стороны, и отзыв, отклик общества таков, что... Мы это видели в коронавирус, когда сотни тысяч людей пошли, вышли, стали помогать разносить пожилым людям продукты, помогать медикам и т. д. И во время СВО тоже огромное количество людей пошло, и во время любых других ЧС поддерживают.
Павел Гусев: Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас говорим о новой России – а что было в Советском Союзе? В Советском Союзе волонтерство было или нет? И как оно выражалось, в чем оно было, проявлялось?
Матвей Масальцев: Конечно, было. Если понимать добровольчество как безвозмездную помощь не родственнику, а другому человеку какому-то, то, конечно, было в огромном количестве, вообще в генах, и это нормально. Плюс организованные формы тоже были, тимуровское движение вполне себе...
Кирилл Родин: Газеты, металлолом...
Матвей Масальцев: Чего только не было.
Кирилл Родин: Ездили на картошку...
Матвей Масальцев: То есть и организованное добровольчество тоже было.
Павел Гусев: Давайте так, честно: я же тоже ездил на картошку, я был студентом, и это было не добровольчество, так скажем.
Матвей Масальцев: Есть нюансы.
Юлия Назарова: Не совсем добровольно.
Кирилл Родин: Безвозмездное, но не добровольное.
Павел Гусев: К нам пришли, сказали: «Так, практика закончилась, ребята (я геолог был в то время), и еще у нас с вами 2,5 недели – здесь недалеко от (тогда) Загорска вы, пожалуйста, на картошечку. Жить будете здесь, там собирать; может быть, кусочек картошки скушаете, а так ничего получать не будете».
Матвей Масальцев: Все верно. Это добровольчеством уже в чистом виде не называется. Более того, и сейчас тоже с таким можно вполне себе столкнуться в добровольческой среде, когда крупные какие-то организации используют в т. ч. и местных, для того чтобы мобилизовать быстро людей на какие-то свои задачи, – такое случается по-прежнему.
Павел Гусев: Да. Но все-таки я хочу получить какое-то разъяснение, и те, кто нас сейчас смотрят, тоже, наверное, хотят понять: корни добровольческого движения – это что, только новая Россия, а в Советском Союзе... ?
Ну вот вы сказали, тимуровское движение, хорошо. Тимуровское движение, давайте прямо скажем, контролировалось комсомолом и пионерской организацией, причем достаточно организованно все это делалось: ребята бесплатно приходили, ухаживали и т. д. и т. п. Но все-таки какие-то формы еще в Советском Союзе и до этого исторические у волонтерского движения есть? Скажем так, я думаю, что и после Великой Отечественной войны, наверное, волонтерство какое-то появилось, да?
Матвей Масальцев: Разумеется.
Вопрос, мне кажется, здесь во многом не только в мотивации человека (она всегда одинаковая и готова), а в том, как все это дело организуется. Мы это организуем как государство, это один вариант такой вот организации людей, иногда действительно в добровольно-принудительном порядке, или это мы организуем на уровне инициатив таких же людей, появившихся снизу, на местах, которые хотят что-то поменять. Это немножко другой уровень организации, немножко по-другому идет взаимодействие, во-первых.
И еще очень важный вопрос, кто и зачем направляет вот этот вот ресурс добровольческий. Сам человек хочет помочь, но он не может быть эффективным, т. е. знать, как эффективно помочь, как решить какую-то социальную проблему, – должен быть какой-то вот мозг, инженер, который привлечет... Не знаю, возьму любую проблему, пусть будет экология...
Павел Гусев: Вы считаете, что это какое-то такое, знаете, состояние души, психологическое, или все-таки какой-то нужно, так сказать, толчок дать, для того чтобы... ?
Юлия Назарова: Я бы, наверное, говорила больше про информировать о том, где можно помочь, как, кому помочь, в каких форматах. То есть у нас же много направлений добровольческой деятельности, иногда человек выбирает то, что ему максимально интересно. То есть кто-то готов помогать пожилым людям, кто-то готов включаться в помощь животным, это тоже добровольчество.
Павел Гусев: Ну да.
Юлия Назарова: То есть здесь наша задача основная в том числе – рассказать человеку, какие у него есть возможности в добровольчестве, в какую общественную организацию он может прийти, в фонд, какой формат помощи ему интересен.
Павел Гусев: Да, согласен.
Юлия Назарова: Поэтому, мне кажется, наша задача – это информация.
Матвей Масальцев: Да, для человека это действительно в большей степени мотивация, состояние души. Для таких центров развития добровольчества, как «Мосволонтер», это информирование, а для тех, кто организует добровольцев, это технология, технология решения какой-то проблемы, а не просто вот пришли, погуляли, помахали лопатами.
Павел Гусев: Тогда я не могу не задать вопрос: а кто организует?
Матвей Масальцев: Организуют. У нас организаторов добровольчества сейчас несколько уровней: организаторы добровольчества как «Мосволонтер», прямо центры ресурсные...
Юлия Назарова: Да, ресурсный центр.
Матвей Масальцев: Организаторы добровольчества – это некоммерческие организации, благотворительные фонды...
Павел Гусев: Понятно.
Матвей Масальцев: Бюджетные организации тоже могут быть: больницы, хосписы.
Павел Гусев: Все понял.
Не могу не задать еще очень важный такой вопрос: кого больше среди волонтеров, женщин или мужчин?
Кирилл Родин: Ой, честно говоря...
Матвей Масальцев: Я могу сказать точно.
Кирилл Родин: По-моему, женщин там побольше.
Матвей Масальцев: Женщин, конечно, намного больше.
Юлия Назарова: Женщин больше. По нашим исследованиям, которые мы проводили, портрет волонтера – это, как правило (ну вот сейчас общее, так скажем, по больнице), девушка 25 лет примерно. То есть девушек все-таки чуть больше.
Кирилл Родин: В основном, да, молодежи больше.
Павел Гусев: Ну да.
Кирилл Родин: Действительно, если мы с вами возьмем такой топ-4, который явно выделяется, у нас там есть помощь СВО, субботники, уход за инвалидами и помощь бездомным животным.
Павел Гусев: Понятно.
К нашей беседе присоединяется Мария Самоделкина, генеральный директор «Волонтерского центра Нижегородской области». Добрый день.
Голос за кадром: Мария Самоделкина – генеральный директор автономной некоммерческой организации «Волонтерский центр Нижегородской области», руководитель штаба #МЫВМЕСТЕ в Нижегородской области.
Мария Самоделкина: Рада приветствовать вас из нашей гостеприимной Нижегородской области! Здесь, собственно, у нас располагается акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. На территории региона функционирует 89 штабов, и мы, конечно, активно подключены к помощи и поддержке наших бойцов, наших героев и их семей.
Павел Гусев: Спасибо!
Вот это еще одно событие, которое дало импульс развитию волонтерского движения, – специальная военная операция. И наши победы во многом ведь связаны именно с добровольцами: помимо просто сбора средств люди плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, бабушки вяжут носки и варежки, собирают гуманитарную помощь... Есть те, кто на собственные средства закупают технику, придумывают всевозможные приспособления, которые помогают ребятам на передовой выжить. Есть те, кто, рискуя своей жизнью, привозят все это на линию фронта.
Вот вы все-таки почему решили заняться этим? Почему именно вы – красивая, молодая, уверен, талантливая – вдруг решили заняться вот такой деятельностью?
Мария Самоделкина: Вы знаете, это прежде всего, конечно, личная история, история про служение. Вот моя личная миссия – это помогать людям, служить людям и, конечно, менять мир.
Я вижу, как за нашими спинами огромное количество добровольцев Нижегородской области присоединяется, огромное количество людей, которые прямо сейчас плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, шьют термобелье нашим ребятам, нашим бойцам, нашим героям. И конечно, для нас это огромная, значимая честь.
Мы уже от Нижегородской области в рамках штабов #МЫВМЕСТЕ отправили 44 транспортных средства – это все собрано силами наших добровольцев. И конечно, для нас большая награда – это видеть счастливые глаза наших бойцов, когда они читают наши письма, принимают гуманитарную помощь. И конечно же, многие из них приезжают сюда в отпуска, мы их обнимаем и благодарим за то, что мы вместе.
Павел Гусев: А они вас обнимают и благодарят, когда приезжают в отпуск?
Мария Самоделкина: Да, вы знаете, это все взаимно.
И конечно, отдельно хочется сказать, что мы помогаем семьям, которые здесь находятся у нас, на территории региона. У нас более 2 тысяч семей подшефны, мы помогаем им в социально-бытовом плане. Ну и, конечно, госпиталям. Ребятам, которые у нас проходят лечение в наших госпиталях Нижегородской области, мы также активно, на регулярной основе (буквально в субботу у нас был праздничный концерт) доставляем, так скажем, радость и тепло на местах. Для нас важно быть поддержкой и надежным тылом для наших героев!
Павел Гусев: Это очень хорошо, то, что вы рассказываете, причем вы это рассказываете с таким воодушевлением и энтузиазмом, что вот мы здесь, находясь в студии, чувствуем, знаете, энергетику положительную того, что вы делаете.
Скажите, а где вы ищете-то волонтеров? Даете объявление в газету или на телевидении выступаете, или объявления на улице висят? Как к вам люди идут, как они узнают о вашей деятельности, великолепной, уникальной деятельности? Как они узнают?
Мария Самоделкина: Конечно, это прежде всего сарафанное радио. Ну и в Нижегородской области мы являемся ресурсным центром добровольчества, и за нашими плечами 306 тысяч добровольцев. Конечно, 3,5 тысяч организаций у нас действуют разных совершенно. И хочу подчеркнуть, что у нас самому маленькому волонтеру 3 года, самому старшему – 97 лет. Семейное добровольчество активно развивается... В общем, разные направления добровольчества развиваются на территории региона, и, конечно, сарафанное радио, сарафанная история, где люди узнают друг от друга и приходят целыми семьями к нам в добровольческое движение.
Павел Гусев: Это замечательно!
Скажите, а откуда, как вы узнаете, что нужно? Вот вы говорите, бойцам нашим на СВО носки вяжут, варежки вяжут, – а что, разве не выдают им нормальные перчатки или носки? Наверняка выдают. Откуда вы знаете, что нужно туда послать нашим ребятам?
Мария Самоделкина: Ну конечно, это индивидуальные заявки наших бойцов, наших героев подразделений. Подчеркну, что мы и технику туда отправляем, т. е. участвуем в закупке автомобилей на СВО. Конечно, это все от ребят.
Но самые, знаете, теплые истории – это то, что они просят нас своими руками связать им носочки, теплое белье сделать... Согласитесь, вы ни с чем не сравните купленное и что сделано своими руками.
Павел Гусев: Это точно.
Скажите, дети посылают туда письма, рисунки?
Мария Самоделкина: Конечно!
Павел Гусев: Это тоже все вы сорганизовали уже?
Мария Самоделкина: Да, конечно.
Юлия Назарова: Я, наверное, добавлю. На территории Москвы тоже действуют штабы «Москва помогает», мы собираем гуманитарную помощь для жителей новых регионов. И вот, например, одна из акций – «Собери ребенка в школу», когда есть возможность принести любому жителю города Москвы канцелярские товары, которые потом отправляются детям на новые территории.
Павел Гусев: Это замечательно.
Юлия Назарова: Совершенно поддерживаю Марию в том, что огромное есть желание помогать разным совершенно и жителям новых территорий, и бойцам СВО, поэтому это правда важно.
Матвей Масальцев: Да-да.
Во-первых, Маша, привет тебе, всегда рад видеть!
Совершенно потрясающая действительно Мария, которая сочетает в себе и вот такую невероятную эмпатию, которая прямо видна с экрана, и одновременно очень большой профессионализм в организации 306 тысяч (или даже больше) людей, которых она организует.
И вот таких же активных людей достаточно много в стране, которые прямо берут на себя роль организатора. В каждом регионе есть ресурсные центры и штабы #МЫВМЕСТЕ, которые делают вот примерно ту же самую работу. Это вот один из таких примеров потрясающего отклика общества на то, каким образом государство вкладывается сейчас в развитие добровольчества.
Павел Гусев: А скажите, Мария, как вы помогаете, так скажем, тем ребятам, которые получили ранения, которые затем восстанавливают свое здоровье? И абсолютное большинство потом снова рвется помогать своим ребятам на фронте, для того чтобы защищать нашу землю и, так скажем, быть настоящими гражданами нашей страны. Вы как вот с этими ребятами, у вас есть какой-то контакт с теми, кто проходит и проходил лечение?
Мария Самоделкина: Конечно. Я подчеркну еще, что мы на регулярной основе выезжаем к нашим бойцам, именно где они проходят реабилитацию и лечение, помогаем им индивидуально, точечно. Они знают все телефоны наших горячих линий, звонят.
Приведу пример. Иногда очень хочется сладкого, а в госпитале нет, и, естественно, наши волонтеры с удовольствием все, что разрешает врач, привозят, покупают. У кого-то что-то необходимо из средств личной гигиены, личные запросы, какую-то справку... То есть это все в рамках волонтерской помощи, в рамках заявок у нас происходит.
Ну и надо сказать и отметить, что у нас есть огромное количество от жен наших героев проектов, направленных на адаптацию участников специальной военной операции. У нас сейчас есть и психологические комнаты разгрузки, и есть комнаты, где люди, наши участники специальной военной операции, восстанавливаются, занимаются спортом. То есть вот такие проекты мы тоже стараемся поддерживать на регулярной, системной основе и все вместе помогать.
Павел Гусев: Я так понимаю, статус волонтера есть, а статус военного волонтера? По-моему, этого нет. А нужно это?
Мария Самоделкина: Для нас, конечно, все они не то что даже... Мы не делим на военных волонтеров или других – у нас все волонтеры общей категории, которые готовы помогать и всегда прийти на помощь, особенно нашим героям.
Павел Гусев: Как вы считаете... Такой, знаете, термин существует «профессиональное выгорание», когда волонтер вдруг понимает, устает, так сказать, перестает по каким-то причинам... Это у вас происходит? И как вы с этими ребятами дальше, в общем-то, контактируете?
Мария Самоделкина: У нас на территории региона сформировано огромное количество мер поддержки, которые есть сейчас для добровольцев Нижегородской области. И конечно, мы сталкиваемся с профессиональным выгоранием добровольцев, особенно тех, которые на долгой основе достаточно помогают разным социально незащищенным категориям населения. И конечно, мы стараемся разработать как можно большее количество мер поддержки, чтобы добровольцы задерживались.
Я приведу пример. В Нижегородской области действует «ДоброКарта» – это бесплатная транспортная карта для тех, кто, например, работает по социальным заявкам, т. е. из пункта А в пункт Б доставляет, например, продуктовый набор. Или у нас действует для организаций бесплатная сотовая связь. Ну и многие другие меры поддержки, которые позволяют добровольцам сохранять свое желание, стремление быть в движении на долгие года. И таких добровольцев, кстати, мы сегодня тоже чествовали, потому что специально для них на территории региона мы разработали почетный знак «За служение людям».
Павел Гусев: Скажите, пожалуйста, вот мы уже завершаем разговор, но все-таки я не могу не спросить. Мы сейчас сделали упор на участниках СВО, помощи раненым, семьям. Скажите, пожалуйста, вот существует же, это не секрет, много одиноких стариков, дети, которые инвалиды, больные дети, дети, которые в неполных семьях, мама на работе, ребенок... Как в этих ситуациях вот вы в своем регионе работаете? Потому что, понимаете, СВО – это святое, а здесь? Это люди, которые рядом с вами, но они страдают, им тяжело. Здесь вы как?
Мария Самоделкина: Здесь, вы знаете, у нас есть несколько социальных историй.
Например, у нас есть социальные кухни, есть социальные пекарни. И конечно, волонтеры с этих социальных кухонь, например, доставляют горячие обеды для инвалидов, для многодетных мамочек, для одиноких пенсионеров – все это в рамках нашего региона активно действует. Или, например, в субботу у нас есть 17 точек раздачи горячего питания, это, например, для лиц без определенного места жительства.
Мы с этими категориями со всеми знакомы, мы их тоже оберегаем, они под нашим патронажем находятся, и, конечно, стараемся доезжать абсолютно до каждого, чтобы наша частичка тепла и добра была вместе с нами. Ну и, конечно, все их проблемы по мере поступления стараемся решать, не в стопроцентном объеме, но 80% проблем, особенно с оформлением документов кому-то, с адаптацией, – всем стараемся помочь.
Павел Гусев: Мария, у меня нет слов, чтобы выразить вам признательность, чувство благодарности. Вы вызываете действительно... Знаете, вот слушаешь и радуешься, понимая, что ты живешь в России, где люди родны друг другу, где помогают, где пытаются сделать все и для близких, и для одиноких, для тех, кто болен, для тех, кто нуждается в помощи. И здесь вы с вашей командой.
Спасибо вам большое за все, что вы делаете! Вы замечательная! Спасибо!
Мария Самоделкина: Спасибо вам!
Павел Гусев: Потрясающе!
Матвей Масальцев: Да, действительно потрясающе.
Павел Гусев: Так это только там, или есть еще какие-то у нас примеры?
Матвей Масальцев: Нет, не только там, конечно. В принципе, по всей стране обязательно есть...
Павел Гусев: Расскажите, где вы видите наиболее сильное волонтерское движение, а где, вы считаете, есть определенные недоработки. И почему они возникают, эти недоработки? То ли местные власти не обращают внимания, то ли людей не хватает, или просто люди, так скажем, замерли и не могут еще очнуться от чего-то?
Матвей Масальцев: Людей, как правило, хватает везде. Есть проблемы действительно с информированием, где-то они сильнее, где-то – меньше. Не везде такие активные ресурсные центры, которые просто вот вокруг себя волну пускают, на которую нельзя не обратить внимание. И где-то достаточно серьезные диспропорции региональные по мерам поддержки, это тоже существует.
Павел Гусев: Да-да-да.
Кирилл Родин: Тут еще, знаете, что можно отметить? Если смотреть, вот уже в регионы дальше уходить... Признаемся честно, Москва себе может позволить чуть-чуть больше, чем среднестатистический регион...
Юлия Назарова: Москва – да.
Матвей Масальцев: Да.
Кирилл Родин: Достаточно эффективной формой того, что вот эти проекты будут удачны, является триумвират власти, общества в лице общественных организаций и местного бизнеса, который занимается развитием территорий и за это отвечает. Вот если этот консенсус складывается, понятно, что бизнес начинает это финансировать, в т. ч. часто бывают градообразующие предприятия, на которых, собственно говоря, весь город и работает, власть помогает со своей стороны в части инфраструктуры и т. д., общественные организации подключаются, то в принципе это действительно позволяет сгенерировать достаточно эффективные вот такие вот центры, где развивается волонтерство. Но это как один из рецептов, он не уникальный, но тем не менее.
Павел Гусев: Скажите, по вашим данным, где, так скажем, волонтерство наиболее ярко выражено и где... ? Можно даже не называть конкретные названия – просто, так скажем, Север, Запад, Юг или Сибирь, где? То есть где волонтерское движение сильное, где среднее, а где, так сказать, нуждается... Не знаю, в чем нуждается: может быть, в помощи, может быть, чтобы туда активисты приехали, может быть, чтобы им рассказали, нашли... Может быть, просто...
Вот смотрите, Мария сейчас была – ну понятно, что из нее [], она, естественно, вокруг себя собирает. Как найти таких людей в других регионах? Вот по регионам можете хоть какой-то такой срез дать?
Кирилл Родин: По регионам я бы так сказал (коллеги меня поправят, если я ошибаюсь), что в целом у нас, для того чтобы движение волонтерства эффективно развивалось, в это необходимо, чтобы вкладывались достаточно существенные госсредства, в создание той инфраструктуры, которая позволяет канализировать вот эту вот позитивную социальную энергию. И в этом плане, конечно, регионы, которые могут себе это позволить, т. е. достаточно состоятельные, постепенно становятся вот такими вот центрами, вокруг которых собираются эти волонтерские движения.
И здесь в т. ч. есть один, на мой взгляд, очень важный, ключевой вопрос: а для чего это нужно государству? Почему это оно вдруг стало в это вкладываться? Там еще есть во что вложиться... На самом деле волонтерство является огромным ресурсом и для экономики, и для социальной, и для культурной сферы вообще, в целом.
Павел Гусев: Почему?
Кирилл Родин: Вот смотрите, Артем Метелев подсчитывал (коллеги меня поправят, я сейчас точно не помню число), в прошлом году, если я не ошибаюсь, порядка 1 триллиона рублей...
Матвей Масальцев: Полтора триллиона рублей.
Кирилл Родин: Полтора триллиона рублей. Понятно, там эти расчеты относительны, в некотором плане приблизительны...
Павел Гусев: Ну понятно.
Кирилл Родин: Но для экономики волонтеры помогли, скажем так, сэкономить или вложить в экономику через свой труд порядка 1,5 триллионов рублей. На этой цифре, естественно, никто не собирается останавливаться, потому что, опять же по тем данным опросов, которые мы видим, потенциал волонтерства еще больше. И здесь возникает вопрос, что, вложив 1 миллиард, мы можем обратно получить 1,5 триллиона, это только с точки зрения, условно говоря, экономики.
Но есть еще и социальная сфера, когда волонтерство позволяет нам выстраивать ту самую крепкую социальную структуру. Есть и культурная сфера: мы понимаем, что люди, которые занимаются волонтерской деятельностью, начинают совсем по-другому относиться в т. ч. к ценностям патриотизма и всего-всего прочего. Когда ты вот в это здание положил свой кирпичик, не просто сидишь смотришь, как другие кирпичики складывают, а сам взял и положил, ты к этому уже начинаешь относиться совсем иначе.
Павел Гусев: Я хочу как бы в продолжение сказать, что вот такое волонтерство, и как мы слышали, и то, что вы говорите, давайте прямо говорить – это продлевает жизнь очень многим пожилым, одиноким, инвалидам...
Кирилл Родин: Да и самим волонтерам, как ни странно, тоже.
Матвей Масальцев: Волонтерам тоже.
Юлия Назарова: Да.
Матвей Масальцев: Доказано, что уровень оптимизма у людей, которые вкладываются в добровольчество, гораздо выше.
Павел Гусев: Понимаете, в одиночестве человек брошенный, по сути дела, соседи там чего-то принесут, а здесь появляются молодые или среднего возраста, а иногда и пожилые люди, которые начинают с тобой по-человечески общаться.
Матвей Масальцев: Достаточно общаться, уже это много.
Павел Гусев: Да, и все, человек оживает, у него другое психологическое состояние, он совсем по-другому начинает относиться ко всему происходящему.
Юлия Назарова: Вот именно, кстати, общение и сообщество – это один из ключевых моментов, почему серебряные волонтеры приходят в добровольчество. У них уже есть какой-то опыт, которым они готовы поделиться, у них есть история про то, что они готовы передавать свои знания и взаимодействовать с молодым поколением.
Потому что на мероприятиях, например, крупных (фестиваль, событие, которое проходит в Москве) очень часто у нас в командах присутствуют люди, которым 14+, и серебряные волонтеры, которым 50+, и у них есть возможность посмотреть на молодое поколение, зарядиться некой энергией, а у старшего поколения есть возможность передать знания, поделиться опытом.
Павел Гусев: Совершенно верно.
К нашей беседе присоединяется Наталья Аминева, создатель детского экологического отряда «Юннаты из «Ростка»» в Воронеже. Добрый день, Наталья.
Наталья Аминева: Добрый день.
Голос за кадром: Наталья Аминева – педагог дополнительного образования, методист детского эколого-биологического центра «Росток», активист Всероссийского движения волонтеров-экологов «Делай!» и «Экосистема».
Павел Гусев: Вы работаете с детьми. Я бы хотел понять, во-первых, что вас сподвигло заняться этой деятельностью, и, во-вторых, почему именно со школьниками.
Наталья Аминева: Я работаю в детском эколого-биологическом центре «Росток», это учреждение дополнительного образования. И инициаторами создания нашего экологического добровольческого отряда стали сами дети. Они предложили не просто изучать экологию и биологию, а еще и делать какие-то конкретные полезные дела.
Так, например, у нас есть приют с кошками, которые у нас под опекой. Ребята с удовольствием сначала делают какие-то игрушечки, собирают корма для питомцев, а потом, конечно, идут к ним в гости. Такое живое общение с братьями нашими меньшими помогает и питомцам, и детям в т. ч. проявить свою заботу.
Это, конечно же, не одна наша акция, много разных уже за это время появилось. Детям это важно, дети чувствуют сопричастность, и они видят реальные плоды своей помощи.
Павел Гусев: Скажите, вот давайте только честно: детей приходится зачастую заставлять или, так сказать, подталкивать, или достаточно пригласить, показать и он уже начинает вместе с вами заниматься всей этой деятельностью?
Наталья Аминева: У нас есть активисты, которые занимаются этим с огромным удовольствием и сами придумывают какие-то акции, куда можно еще сходить, где помочь, что сделать, и есть ребята, которые сочувствующие, скажем так, которым если показать, объяснить, что это какое-то интересное дело, то обязательно подключатся.
Павел Гусев: Понятно.
Скажите, а как родители относятся к тому, что вот ребенок неожиданно, вот играл, бегал во дворе и вдруг начинает ходить ухаживать за кем-то, приносить кому-то продукты, ну и так далее, т. е. заниматься вот этой волонтерской деятельностью? Как родители к этому относятся, все положительно, или некоторые с подозрением?
Наталья Аминева: Родители у нас разные. У нас есть такие родители, которые даже не знают, чем дети занимаются во внеурочное время...
Павел Гусев: О, интересные родители.
Наталья Аминева: Да. Есть родители очень активные, которые полностью поддерживают, сами обязательно ходят с ребятами, помогают. И есть родители, которые, конечно, относятся с настороженностью, – вот им надо показывать, объяснять, рассказывать, чем же занимаются дети во внеурочной деятельности.
Павел Гусев: Понятно...
Как вы считаете, насколько важно детей приобщать ко всей этой деятельности?
Матвей Масальцев: Это вообще даже несомненно.
Павел Гусев: Вот давайте.
Матвей Масальцев: В принципе, наша, мне кажется, задача – это чтобы появилась культура, такая культура участия постоянного добровольческого. [Для этого] нужно заниматься добровольчеством, привлекать и в школьном возрасте (даже раньше), и в студенческом, и на работе, и старших. Это создает такую преемственность поколений, создает нам большой задел на будущее. В этом смысле работа с детьми очень важна, и она правда очень хорошо ведется.
По поводу родителей могу сказать – есть цифра: 8 из 10 людей в России хотят, чтобы их дети или внуки были волонтерами.
Павел Гусев: Ух как!
Матвей Масальцев: Так что родители очень хорошо [воспринимают].
Павел Гусев: А откуда эти цифры?
Матвей Масальцев: Это вот тоже, по-моему, ВЦИОМ.
Павел Гусев: Серьезно? Именно такие цифры?
Матвей Масальцев: Да.
Павел Гусев: Ну это потрясающие цифры.
Юлия Назарова: Я, наверное, приведу пример форматов, где мы подключаем семьи, родителей вместе с детьми.
У нас на территории Москвы есть «Добрые места» – это волонтерские окружные центры, открытые пространства, в которые может прийти любой житель.
И вот у нас есть система «Добрых выходных», когда мы, собственно говоря, предлагаем некий формат, для того чтобы ребенок с родителями пришел и поучаствовал в каком-то добром деле: например, изготовил открытку для пожилого человека, мы ее потом передаем в геронтологический центр, или мы рассказываем о помощи животным и, например, можно принести корм, потом с нами вместе съездить в приют для животных.
То есть форматы разные, и вот на территории Москвы есть, собственно, такая возможность прийти и поучаствовать вместе с ребенком, с родителем в формате «Добрых выходных», познакомиться.
Павел Гусев: А волонтерское движение в отношении животных тоже существует?
Юлия Назарова: Да, конечно.
Матвей Масальцев: Конечно.
Юлия Назарова: Это зооволонтерство, которое также помогает. Вот как раз наша гость и рассказывала тоже об этом, о помощи животным.
Павел Гусев: Это интересно.
Скажите, пожалуйста, вот вы детей привлекаете, так скажем, из одной, из двух школ, или, например, у вас какие-то более широкие возможности, чтобы более широкий круг детей участвовал вот в этой деятельности?
Наталья Аминева: Это ребята, которые ходят к нам в центр, это несколько школ близлежащего микрорайона города Воронежа. Но мы проводим в наших соцсетях форматы, в которые привлекаем как минимум жителей Воронежской области, но к нам присоединяются и ребята, которые подписаны на нас и дружат с нами из других областей.
Вообще, волонтерское движение, юннатское движение сейчас на подъеме, и я думаю, что из года в год... Вот буквально акция «Носики Первых» проходила в прошлом месяце, тысячи пакетов с кормом собрали и передали в различные приюты по всей стране.
Павел Гусев: А скажите, все-таки если мы берем подростков, детей, какими конкретно делами все-таки вы их настраиваете заниматься? На животных переключаете или, может быть, бабушек, дедушек каких-то, что-то принести? Вот какое вот такое, знаете, вы выбираете наиболее для них целесообразное [направление]?
Наталья Аминева: Если на работе, то мы, конечно, у нас больше зооволонтерство и экологическое волонтерство. Но мои личные дети (у меня четверо их) занимаются различными направлениями волонтерства, в т. ч. социальное волонтерство.
Буквально в прошлую субботу я, мой супруг и мои младшие дочери участвовали, у нас в Воронеже есть «Ангар милосердия», в который привозят гуманитарную помощь, и мы фасовали продуктовые пакеты. Нас было в районе 40 человек, активистов, волонтеров. Десять тонн продуктов длительного срока хранения мы расфасовали по пакетам. Принимала участие моя младшая дочь, ей 6 лет, третья дочь 8 лет. Азарт, весело, здорово, всей семьей! Буквально за 3 часа 10 тонн продуктов было рассортировано и отправлено нуждающимся.
Павел Гусев: А как вы считаете, что происходит в малых городах Воронежской области? Там есть такие детские направления, подростковые?
Наталья Аминева: Есть, конечно. Практически в каждом районном центре, в крупных селах есть «Добро.Центры», которые занимаются различной помощью. Сейчас, конечно, очень развита помощь СВО, ну и также социальное волонтерство, помощь многодетным семьям, помощь семьям с детьми с инвалидностью... То есть это все у нас очень развито тоже.
Павел Гусев: Дети пишут письма на СВО?
Наталья Аминева: Обязательно. У нас есть любимая акция «Юннаты – солдатам», когда ребята рассказывают о том, чем они занимаются в центре, и, конечно, передают приветы нашим бойцам.
Павел Гусев: Это очень хорошо!
Скажите, ну а как вот вы чувствуете, есть у некоторых родителей, может быть, какое-то негативное отношение, что ребенок ходит по старичкам или по зоо- всяким местам, где могут быть и больные животные, и что-то еще? Есть такое, что вот родители вдруг говорят: «Нет, на этом заканчиваешь»?
Наталья Аминева: Вы знаете, родителям всегда можно объяснить.
Павел Гусев: Вот я об этом и хочу понять.
Наталья Аминева: Да, пригласить вместе с собой, показать, чем мы занимаемся. Большинство проникаются и поддерживают.
Павел Гусев: Как вы считаете? Вот мне кажется, что родительская тема достаточно такая...
Матвей Масальцев: Она сложная.
Павел Гусев: Вот когда с детьми... Сложная бывает.
Матвей Масальцев: Я могу сказать, что вот есть несколько вызовов. Один из них – это действительно семейное волонтерство, чтобы дети вместе с родителями приходили. У нас пока этот потенциал не раскрыт полностью.
У нас в целом, например, люди работающие, [из них] вот только четверть так или иначе занималась добровольчеством (времени нет и всего остального). Мне кажется, не раскрыт потенциал старших, которые как бабушки и дедушки могут с детьми куда-то приходить волонтерить.
Вот очень все хорошо с детьми, все занимаются, очень хорошо со студентами, а семейное добровольчество, добровольчество на рабочем месте и добровольчество старших – это вот то, над чем еще стоит работать.
Павел Гусев: Спасибо вам большое! Вы очень хорошо рассказали, чем вы занимаетесь, что вы делаете, как вы детей... Знаете, вот детей вы заставляете в чем-то сломать свои стереотипы (там телевизор, музыка, телефон, еще что-то), вы очень мудро приглашаете их и показываете, что такое доброта, что такое забота о ближних, о животных, о брошенных, – за это, конечно, большое вам спасибо. Больших вам успехов и доброго вам здоровья!
Наталья Аминева: Спасибо вам за приглашение!
Павел Гусев: Спасибо вам!
Ну это замечательно, посмотрите.
А как вы считаете, все-таки я еще раз хотел бы немножко обобщить: вот этот опыт, когда привлекают детей где-то с помощью родителей, где-то с помощью школы, может быть, каких-то других учреждений, – это везде удается, или все-таки... ? Вот я как раз хочу это понять, везде это удается, или все-таки существуют пятна, какие-то пробелы и, может быть, имеет смысл каким-то структурам и общественным, и государственным посмотреть на это более внимательно? По детям я имею в виду.
Матвей Масальцев: Мне кажется, там проблема другая.
Павел Гусев: Какая?
Матвей Масальцев: Там проблема не в том, что не удается привлечь, – удается, тем более школы являются организованными структурами: пришел, сказал, они пошли делать, преподаватели. Очень часто это такой немножко фейковый опыт, такой ненастоящий: детей соблазняют баллами в дальнейшем к ЕГЭ, другими бонусами...
Павел Гусев: А-а-а... Ах, точно!
Матвей Масальцев: То есть не ценностью такой вот глубокой, а какой-то поверхностной, и это проблема. То есть это важно поддерживать, но нельзя делать так, чтобы поддержка замещала вот свою собственную мотивацию, а это часто происходит, и, конечно, дети на это соблазняются: они все-таки еще... Нет ценностного каркаса.
Павел Гусев: Ну да. Это вообще проблема такая, очень, я считаю... Вы понимаете, ведь то, что сейчас так слышишь (я читаю как журналист и смотрю), – идет некое даже хвастовство: «У нас столько процентов детей охвачено, столько охвачено», что чуть ли не каждый второй поступающий в вузы на сегодняшний день числится волонтером...
Матвей Масальцев: Это правда.
Павел Гусев: А это, наверное, для поступления хоть какой-то, но психологический плюс, так или нет?
Юлия Назарова: Это большой плюс, весомый.
Матвей Масальцев: Это иногда вполне себе ощутимый плюс, дополнительные баллы.
Юлия Назарова: Ряд университетов, в т. ч. московских, добавляют за волонтерский опыт сколько-то баллов при поступлении, поэтому это вообще реальные, осязаемые баллы. То есть если у него 100, 200 и больше часов, он вполне может при поступлении в приемной кампании, которая идет в университетах, получить дополнительные баллы. А иногда несколько баллов очень хорошо влияют.
Матвей Масальцев: Да, в некоторых вузах это наравне с золотой медалью или такого уровня.
Юлия Назарова: Да.
Павел Гусев: Это плюс или минус?
Матвей Масальцев: Это и плюс и минус.
Юлия Назарова: Ага.
Матвей Масальцев: Важно стимулировать, но важно при этом...
Мне кажется, вот в чем у нас сейчас должен произойти перелом? Мы создали огромное предложение, очень много людей хотят стать добровольцами по разным причинам, но у нас спрос немножко отстает. Для добровольцев, в т. ч. молодых, нет нормального количества задач, которые позволят им вовлечься и почувствовать ценность того, что они делают.
Есть еще одна интересная цифра: более 30% добровольцев не очень понимают, что они делают, т. е. как они влияют на какие-то изменения в обществе. Это тоже вот звоночек.
Павел Гусев: Ага...
А как вы считаете с позиции социолога?
Кирилл Родин: Вы знаете, мне кажется, мы чуть-чуть возвращаемся к теме картошки. Волонтерство – это про социальный процесс, который находится в развитии. Вот были такие времена, когда в 1990-е на волонтеров странно смотрели, потом на них стали смотреть с энтузиазмом; сейчас мы вышли на тот уровень, когда, скажем так, верхние этажи власти активно поддерживают волонтерство. Здесь важно в этот момент не скатиться в т. н. палочную систему. Если начнется соревнование между школами, что «У меня волонтеров больше»...
Павел Гусев: «У меня 90%, а у тебя – 70%!»
Кирилл Родин: Да, вот после этого все дружно едут на картошку и не задают вопроса «зачем». Вот это, мне кажется, одна из тех угроз, которые сегодня существуют. Потому что за волонтерством очень важно оставить эту миссию принесения безвозмездного добра.
Павел Гусев: Да-да.
Вы знаете, меня немножко смущает, конечно, то, что это дает баллы при поступлении, все... То есть получается, знаете, что мы в подростке, в ребенке закладываем некий, так сказать, потенциал: «Сделай – получишь», «Сделай – получишь». То есть мы где-то, может быть, нарушаем его внутреннее психологическое какое-то состояние, когда он от души это начинает делать, а он при этом еще думает: «Ага, я здесь могу и балл получить при поступлении, или что-то еще». Вот это меня смущает.
Матвей Масальцев: Я вам могу сказать, я много на эту тему читал исследований, и есть практический опыт, с которым я ознакомился.
Первое: люди все-таки используют какие-то внутренние мотивации, связанные с помощью другим, изначально, но при этом чаще всего остаются, если им говорят спасибо вот в добровольчестве, это стимулирует действительно. Здесь просто важно не путать причину и следствие, не начинать со спасибо, а все-таки давать его после того, как ты что-то сделал, это первое.
И второе. Один мой мудрый друг из социального волонтерства говорит: «На что человека позовешь, на то он и приходит. Если ты его зовешь прийти помочь нуждающимся, то он приходит за этим; если ты ему говоришь прийти и получить баллы к ЕГЭ, то он придет за этим». Очень важно действительно на этапе вовлечения молодых людей, я повторюсь, создавать смыслы, главное. А потом баллы – это хорошо, но для большинства они будут уже не важны, потому что они придут за другим.
Юлия Назарова: Это же правильно называется мерами поддержки, т. е. он уже решил, что он хочет помогать какому-то человеку, или животным, или в любом другом направлении, а здесь мы его правда поддерживаем теми возможностями, которые ему даем. То есть здесь важно, согласна с коллегами, не путать первоначально цель того, что мы делаем.
Матвей Масальцев: Вот когда у нас началось такое массовое увлечение, действительно, многие стали грешить школы. Как проще всего детей привлечь?
Юлия Назарова: Сказать: «Дадим баллы».
Матвей Масальцев: «Приходите, баллы здесь».
Юлия Назарова: Или футболка.
Павел Гусев: Да-да-да.
А вот как вы считаете... Особенно это для детей важно, взрослые тут попроще, я считаю, они сами себе выбирают. Вот как для детей, кто это толкает или подталкивает, пойти помогать животным (спасать, кормить, выхаживать) или пойти к бабушкам (сделать какие-то покупки, помыть полы, может быть, а может быть, я не знаю, занавески повесить, а может быть, еще что-то сделать, передвинуть шкаф с одного места на другое)? Как вот здесь вот вот эту золотую середину найти?
Кирилл Родин: Вы знаете, я бы сказал так, что, мне кажется, вот действительно учитывая, что существует достаточно большое количество форматов волонтерства, ну действительно мы видим в т. ч. и по результатам опросов, что кому-то интересно помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, кому-то – помогать животным: у людей есть свой склад жизни, ума, восприятия, увлечений, мотивации и т. д.
Поэтому здесь, мне кажется, наверное, одна из задач как раз волонтерских центров – понять, что человеку действительно интересно, к чему у него душа лежит, там он будет наиболее эффективно раскрываться, наиболее эффективно помогать, чтобы не получилось как [в стихотворении]: «Хоть был пожарником Гаврила, Гавриле дали фильм снимать», – здесь может что-то не получиться.
Павел Гусев: Понятно.
Юлия Назарова: Именно поэтому есть несколько форматов и мероприятий практических. Например, в Москве проходит проект «Время добра».
Павел Гусев: Да-да, есть такой.
Юлия Назарова: Он совершенно такой практический, т. е. ты можешь поучаствовать в различных мастер-классах в разных направлениях волонтерства и через эту практику понять, тебе интересно помогать животным или тебе интереснее в социальном направлении, в патриотическом направлении, т. е. здесь у тебя есть палитра выбора.
И ты после того, как поучаствовал, познакомился с такими же волонтерами в этом направлении, принимаешь решение. У нас есть, например, медиаволонтеры, которые фотографируют, снимают видео, занимаются контентом, для них это интересно. И вот через такие форматы у них есть возможность попробовать и потом принять решение выбора, что им интересно.
Павел Гусев: У нас уже близка к завершению наша с вами встреча в студии, разговор – все-таки хотелось бы понять, чтобы каждый в какой-то степени выразил свою позицию, мнение, взгляд: будущее волонтерство в чем будет заключаться? Оно будет переходить, так скажем, в позицию «Сколько я баллов заработаю?» или все-таки в позицию «Сколько я спасу животных (кошек, собачек, кроликов)», «Сколько я принесу счастья одинокой бабушке или дедушке, когда он со слезами на глазах увидит, что ребята пришли и помогают, моют или продукты приносят»? Вот будущее, где вы видите будущее? И какое оно?
Кирилл Родин: Вы знаете, мне кажется, будущее будет таким, каким мы его сделаем, как бы это банально ни звучало. Если мы с вами пойдем, например, по пути действительно утилитарному, развития материальных вот таких форм поощрения, с моей точки зрения, скорее всего, это действительно скатится в такое русло, из серии «ты мне – я тебе», фактически чуть ли не до коммерческой сферы...
Павел Гусев: Вот это самое страшное, «я тебе – ты мне». Это уже не...
Кирилл Родин: Да. А вот если мы начнем гибко и многообразно подходить к нематериальным формам стимулирования... А мы говорили, что, вот по данным тех же опросов, для людей одним из ключевых факторов является вопрос самоактуализации. Скажи спасибо ему перед всем стройотрядом, организуй фестиваль, где он станет первым, вторым, третьим, но он там действительно поймет, что он чего-то добился. Это все нематериальные факторы. А уже потом можно раздавать в принципе и баллы, и все остальное, но на первом месте должен быть нематериальный как раз фактор.
Павел Гусев: Ну да.
Юлия Назарова: Очень важный инструмент есть в волонтерском сообществе (не про баллы сейчас, не про какие-то там материальные вещи) – церемония «Спасибо» по итогам событий, в которых принимают участие волонтеры.
Павел Гусев: А это как? Расскажите, что это.
Юлия Назарова: Это когда мы собираем всех волонтеров после какого-то мероприятия, в котором они принимали участие, и награждаем волонтеров, которые были самыми лучшими, самыми молодцами, активными, или, например, чествуем всех волонтеров, говоря им спасибо, говоря благодарственные слова. И для них это важнее, чем баллы.
Павел Гусев: Вот это хорошо!
Юлия Назарова: И вот через такие форматы мы им как раз и говорим о том, что у них есть возможность, например, дать обратную связь по итогам мероприятия, что им больше всего нравилось, какая функция им понравилась, в целом поделиться своими впечатлениями.
Павел Гусев: А какие-то замечания они могут высказывать?
Юлия Назарова: Конечно, мы спрашиваем их мнения, т. е. они могут нам дать обратную связь как организаторам событий. И вот эти церемонии «Спасибо» и вообще спасибо по итогам событий – это один из самых важных моментов.
Павел Гусев: Очень, очень. А скажите, какие награды? Вот, вы говорите, награждают.
Юлия Назарова: Это благодарственные письма могут быть, как правило. И вот все благодарственные письма, которые мы вручаем волонтерам, они потом в портфолио собирают, для них это тоже важный момент, такой трофей.
Павел Гусев: А есть какой-нибудь общий значок волонтера России?
Юлия Назарова: Их очень много разных у регионов, там свои форматы.
Павел Гусев: То есть каждый регион по-своему здесь решает?
Юлия Назарова: Конечно.
Матвей Масальцев: Есть общий, но его добиться сложно, проще получить действительно много чего другого.
Юлия Назарова: Да.
Павел Гусев: А ваша позиция по тому, каким будет будущее волонтерства?
Матвей Масальцев: Смотрите, я, конечно, в этом смысле оптимист. Мне кажется, что вот мы осознали проблему, вот мы 10 лет большими, огромными темпами шли (я сейчас с точки зрения государства говорю, хотя я не вхожу в государство, но все-таки в политике этой участвую), большими темпами развивали вот это движение, раскачали огромный интерес к нему. Вот мы осознали, что мы где-то немножко сейчас начинаем поворачивать не туда, и я думаю, что мы сможем повернуть в правильное направление, что мы сможем дать смыслы, что мы сможем перейти от количественных показателей к качественным, и тогда все у нас будет хорошо.
Тем более что я лично уверен и мои коллеги тоже уверены, что добровольчество – это основа здорового, национально ориентированного, патриотического гражданского общества. Без него никуда, это фундамент.
Павел Гусев: Очень важная позиция!
Наша программа заканчивается, и я хочу сказать следующее.
На нашей планете сегодня живет 8 с четвертью миллиардов людей. У всех из них (или, лучше сказать, нас) существуют свои желания и стремления, и именно они являются основой поступков, которые мы совершаем. Какие-то из них укладываются в рамки морали или этики, принятых в обществе, и они никому не приносят никакого вреда, ну или он не так ощутим. Другие же поступки выходят за эти границы, порой очень далеко, и вот они-то и приносят беды и страдания, с которыми человеку в одиночку не справиться. Вот тут-то и появляются люди, которые помогают справиться с болью, их-то мы и называем волонтерами, или добровольцами, – тех, кто делает это по доброй воле. Недаром же на Руси всегда в таких случаях говорят: «Мир не без добрых людей».
Я благодарю моих гостей за то, что они пришли сегодня в нашу студию. А я, Павел Гусев, прощаюсь с вами.