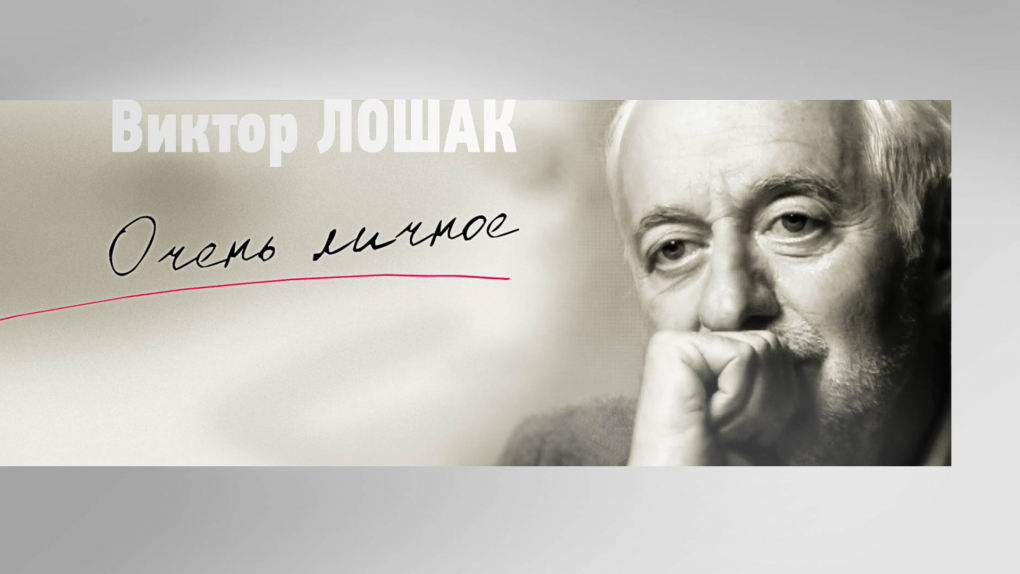Дмитрий Петров: Каждый язык у меня раскрашен в специальные цветовые тона, с каждым связана своя музыкальная история и личная ассоциация
https://otr-online.ru/programmy/ochen-lichnoe-s-viktorom-loshakom/dmitriy-petrov-72886.html 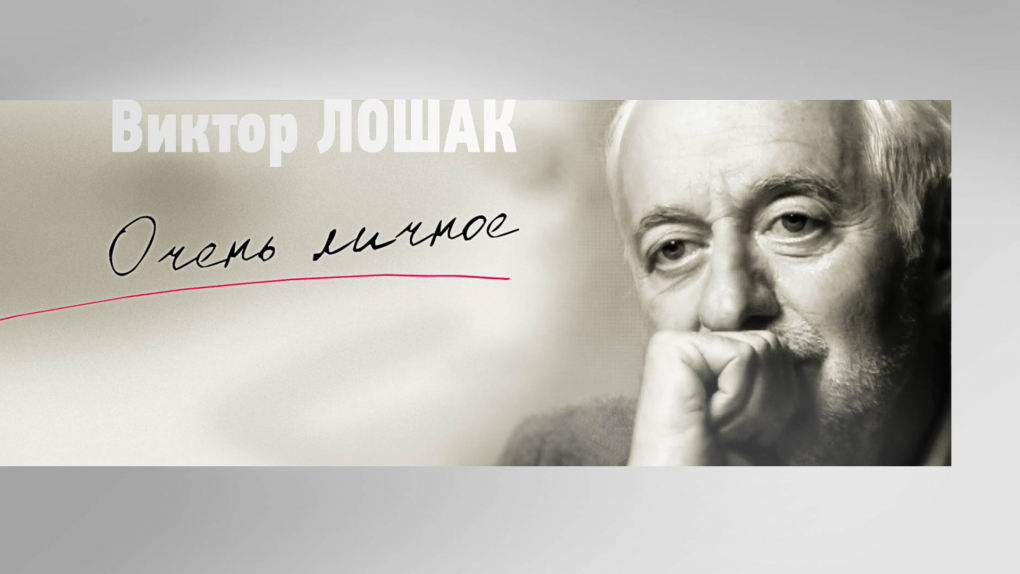
Виктор Лошак: Это «Очень личное» – программа о принципах и правилах жизни. Известный российский полиглот, синхронный переводчик, автор методик изучения иностранных языков Дмитрий Петров поделится с нами своими секретами.
Дмитрий Юрьевич, я отношусь к тем людям, их, наверное, масса, которые вам искренне завидуют. Потому что знание такого количества языков, как знаете вы – восемь в активных, тридцать замороженных и еще, еще, еще – это расширяет просто видение мира. А что значит замороженные языки?
Дмитрий Петров: Есть языки, которые у меня постоянно, так сказать, в оперативном режиме: это языки, которые я преподаю, которыми я чаще всего пользуюсь, которые достаточно в активном состоянии.
Есть языки одной страны, есть языки одного проекта (в моем случае), которые в какой-то момент я освоил. Потом достаточно долгое время они могут быть не востребованы, но если вдруг настанет день, когда они мне снова понадобятся, я знаю, за какую ниточку их вытянуть.
Виктор Лошак: А языки сами друг другу не мешают?
Дмитрий Петров: У меня есть собственные приемы. Это определенная такая система ассоциаций: каждый язык у меня раскрашен в определенные цветовые тона. С каждым языком у меня связана определенная музыкальная история и какая-то личная привязка, личная ассоциация: то есть либо человек, связанный с этим языком, либо ситуация, либо страна.
Виктор Лошак: То есть, чтобы вызвать этот язык в памяти, вы адресуетесь к символам?
Дмитрий Петров: Да. Это своего рода мантра. Это может быть песня. Это может быть просто такое яркое личное воспоминание, которое за собой вытягивает и словарный запас, и грамматические структуры, и все, что с этим языком связано.
Виктор Лошак: Здесь вот на вашем месте сидела Татьяна Владимировна Черниговская, которая вам хороша известна. Она сказала мне, что «мы понимаем некоторые профессии, как действует мозг, как человек действует в связи с этим». Вот она говорит: «Чего я не понимаю, это как работает мозг переводчика». Она говорит: «Он должен закипать». Она говорила о синхронном переводе.
Вы один из самых известных синхронных переводчиков у нас в стране. Вы преподаете синхронный перевод. Что вы по этому поводу думаете?
Дмитрий Петров: Искусство синхронного перевода – это, пожалуй, не просто профессия. Это именно искусство – требует, помимо просто знания языка и умения переводить, еще два важных аспекта. Это определенный актерский аспект, то есть умение вжиться в образ человека, которого ты переводишь, даже если он тебе не симпатичен. И второй момент – это спортивный, то есть определенная степень стрессоустойчивости, физической выносливости и быстроты реакции.
Виктор Лошак: Татьяна Владимировна утверждала, что после работы синхронный переводчик не помнит, о чем он переводил. Вы помните?
Дмитрий Петров: Это обязательное условие. Даже если вдруг какая-то память о мероприятии, о событии, о теме, по которой ты переводил, еще остается, надо как можно быстрее от нее избавиться.
Синхронный переводчик не может себе позволить специализироваться только на одной теме, на одной сфере. Сегодня это может быть медицина, завтра – финансы, послезавтра – религия или что-то еще. Поэтому, помимо всего прочего, очень важно уметь быстро войти в новую тему, окунуться в нее, прожить ее и как можно быстрее выйти из нее.
Виктор Лошак: Вот еще об одной тайне этой профессии. Что важно: точно повторить говорящего или как минимум, донести просто смысл того, что он сказал?
Дмитрий Петров: Есть определенная градация, такая иерархия элементов речи по степени важности. То, что требуется обязательно услышать, понять и перевести, это примерно, по разным оценкам, составляет 15-20% всего сказанного.
Следующий уровень – это иллюстрирующий материал, это 25-30%. 50-60% – это то, что можно попросту игнорировать или передавать своими словами: это всевозможные вводные конструкции, повторы, малозначимые детали.
Виктор Лошак: То есть пустота в нашей речи занимает половину?
Дмитрий Петров: Конечно. Скажем, начинающий молодой переводчик, слыша, как спикер, начиная свое выступление словами, например, «Ну что ж, исходя из того, что ввиду вновь сложившихся обстоятельств...» Профессиональный переводчик эти слова просто игнорирует – он ждет, что же там будет. Начинающий переводчик судорожно начинает вспоминать: «Как же сказать «исходя из того и ввиду того»»?
Виктор Лошак: И уже пропускает дальше.
Дмитрий Петров: Теряется. И это вызывает ненужное, совершенно лишнее напряжение, которое мешает ему услышать значимое. Потому что, когда в следующей фразе будет сказано: «Мы готовы инвестировать в ваш проект», он это может пропустить.
Виктор Лошак: У Михал Михалыча Жванецкого есть такое знаменитое автобиографическое эссе: когда он на Западе, в какой-то стране, его попросили прочесть что-то, и он читает знаменитый свой рассказик «по три рубля, по пять рублей раки». И слушающие его спрашивают у переводчика: «Над чем они смеются? Это рынок. Раки большие должны быть по пять, дороже. Маленькие – по три». Юмор переводим?
Дмитрий Петров: Юмор и даже шире – тема идиом, афоризмов, пословиц – это очень серьезный такой момент в подготовке переводчика. И в этом отношении все, что связано с юмором – какие-то шутки, афоризмы подразделяются на три разных вида.
Первый – это абсолютно 100% переводимые структуры. Ну, например, библейские цитаты какие-то, общепонятные пословицы типа: «Время – деньги». Есть абсолютно непереводимые вещи, которые связаны с игрой слов, с каламбурами, которые не передаются...
Виктор Лошак: Как вы поступаете в этом случае?
Дмитрий Петров: И за них не надо даже браться. Потому что, когда если мы пытаемся что-то найти, какой-то эквивалент – в письменном переводе, в художественном переводе это требуется. Есть время подумать.
Взвесить разные варианты в устном, тем более в синхронном переводе это невозможно. Поэтому попытки сделать это экспромтом иногда вызывают непонимание или недопонимание и лишние вопросы. Есть много примеров.
И третья часть – это ситуативные шутки, когда можно не буквально, но настолько же смешно или хотя бы близко к тексту дать свой эквивалент.
Виктор Лошак: Ну что же, юмористы обречены на то, что их не переводят? Или переводят не точно?
Дмитрий Петров: Перевод... Мы ведь смеемся над рассказами Марка Твена или О. Генри, ну многих-многих юмористов, которые переведены на русский язык, даже не зная языков оригинала. Но это плод работы художественного переводчика, который имеет роскошь времени подобрать нужный, более-менее адекватный вариант, который рассмешит читателя языка перевода.
Виктор Лошак: Ну да. А вы не пробовали себя в художественном переводе?
Дмитрий Петров: Я пробовал. Я переводил даже поэзию. У меня были публикации, в том числе в «Литературной газете».
Виктор Лошак: Я хотел бы одну вашу цитату привести. Однажды вы сказали: «Русский – очень хищный язык. Может проглотить и переварить что угодно». Ну, во-первых, почему такой уж хищный? Во-вторых, один ли он такой?
Дмитрий Петров: Это был ответ на достаточно частый такой вопрос, что «надо ли нам бороться с притоком иностранных заимствований?» в русский язык. И, очевидно, прослеживая эту историю...
Виктор Лошак: Почему-то это политическая, как правило, дискуссия, а не языковая.
Дмитрий Петров: Да. Да. И прослеживая историю языка, я показывал, что в разные периоды истории русский язык массово и постоянно заимствовал огромное количество иностранной лексики. Когда-то это были тюркизмы. Потом заимствования из германских языков, из польского. Далее – немецкий, французский. И последние 100 лет – это английский; прежде всего источник.
И я утверждал, собственно, когда я назвал его хищным, что русский язык вполне... Мы его считаем великим и могучим именно потому, что он вполне способен справиться, разобраться, что ему нужно, отфильтровать и выбросить ненужное и оставить то, что соответствует его потребностям – для правильного отражения, например, новых реалий и в технической, и в экономической сфере жизни, и в бытовой тоже.
Виктор Лошак: Когда я был редактором «Огонька» у нас было большое интервью с вами. Я пытался его найти перед интервью нашим. Не нашел, к сожалению. Но хорошо помню один факт из этого интервью: что вы в Казахстане учили казахов казахскому языку. Я правильно помню?
Дмитрий Петров: Да. Такие факты были, да. Дело в том, что после того, как я стал создавать некое подобие авторской методики (прежде всего я делал это для себя), мне не хватало тех языков, которые я освоил в академическом формате в школе, в ВУЗе. И единственный способ выучить большее, чем обычно это принято, количество языков – это сделать это быстрее: быстрее, в более компактном режиме.
Когда это у меня стало получаться с теми языками, которые я впоследствии применял в работе, мне стали предлагать проекты, которые я называю для себя «язык под ключ». То есть в компактное время сделать программу, курс языка для тех, кому он нужен.
И в конкретной ситуации – это было несколько компаний в Казахстане, руководство в которых, будучи этническими казахами, что не редко, не владели языком предков – и собственно, я проводил для них такие курсы. То есть объяснял им структуру, логику тюркских языков, казахского языка в частности. Какие-то основные моменты.
Виктор Лошак: То есть методика оказалась самым главным в этой ситуации?
Дмитрий Петров: Да. Именно методика. То есть умение среди многообразия грамматических явлений конкретного языка выделить, вычислить какие-то наиболее базовые фундаментальные алгоритмы, которые позволяют понять саму логику построения слов, словосочетаний, предложений в данном языке.
Виктор Лошак: У меня есть одно такое личное воспоминание, такое абсолютно туристическое. Вы наверняка были в Риме на площади Испании.
Дмитрий Петров: Да.
Виктор Лошак: Там поднимается такая лестница большая, от площади на верхнюю улицу. Лестница была вся усеяна молодежью. Молодежь сидела...
Я поднимался по ней. И я слышал, что они все говорят между собой по-английски, хотя явно сидело полмира там. Не станет ли английский, в конце концов, просто мировым языком?
Дмитрий Петров: Он, по сути, стал, скажем так, универсальным или глобальным языком. Но есть такой нюанс. Английский язык – единственный из языков мира, на котором большая часть говорящих на нем говорят на нем как на втором или третьем. То есть количество носителей английского языка как родного составляет где-то 20-25% среди всех людей, которые на нем говорят.
Что это означает? Это означает естественный процесс упрощения языка и деления его на региональные варианты. То есть в последнее время, например, сейчас, когда культура кинопроизводства, создания многочисленных сериалов, это практически поставлено на конвейер, есть много случаев, когда, скажем...
Виктор Лошак: И один и тот же сериал во всем мире смотрят в одно и то же время.
Дмитрий Петров: С одной стороны, да. А с другой стороны, когда чисто британский сериал переводят на американский язык. Или, как минимум, сопровождают его субтитрами. То есть понятно, когда мы говорим об анимационных диснеевских проектах, там всегда подбираются актеры с лучшей дикцией для семейного просмотра, чтобы это было понятно везде.
Но когда что-то связано с локальной региональной культурой, очень часто это требует передачи перевода на другой вариант того же самого языка.
Виктор Лошак: А вы еще говорили по поводу английского языка, что «английский язык созрел, проведя 400 лет в подполье». Когда он был в подполье?
Дмитрий Петров: 1066 год. Вильгельм Завоеватель, герцог Нормандии, победивший тогдашнее английское королевство и ставший новым английским королем, – человек, говоривший исключительно на французском. Ну, на старофранцузском.
Все люди, которых он привез с собой из Франции, из Нормандии и которых поставил на все руководящие позиции, говорили только на французском языке. Вся система государственного управления, религия, образование, торговля – все, все, все было на долгие века происходило только на французском языке.
Более того, людей, которые пытались что-то сказать по-английски в приличном обществе, безжалостно выгоняли. Потому что это было неприлично в светском обществе говорить на языке крестьян, разбойников типа Робин Гуда. Англосаксы – это были не сказать угнетаемое, но достаточно маргинальное большинство населения.
И это продолжалось вплоть до эпохи Чосера – это уже рубеж XIV-XV веков, когда английский язык стал немножко проявляться в какой-то литературной форме. Но вплоть до эпохи Шекспира, а это уже стык XVI-XVII, когда это стал все-таки общепринятым литературным языком страны.
Виктор Лошак: То есть литература вернула язык?
Дмитрий Петров: Литература вернула язык. И у меня есть такая еретическая теория, что у языка есть признаки живого организма. Вот этот живой организм, в нашем случае – древнеанглийский язык, который был очень громоздким, архаичным, в нем было много падежей, мужской, женский, средний род и все прочее, он затаился, как вот такой латентный вирус.
И чтобы выжить, и чтобы впоследствии победить французский язык доминирующий, он вынужден был стать простым и удобным. Он отбросил все окончания, все лишние формы, вышел на поверхность, поглотил словарный запас французского языка. На сегодняшний день английский на 60% состоит из французских слов, до неузнаваемости, конечно, трансформировавшихся.
И в конце концов он стал удобным. Он стал сначала языком общения, потом языком торговли, языком колониальной экспансии Англии. И постепенно, но еще долгое время, скажем, в юридической, в судебной системе французский язык вплоть до XVIII века в Англии превалировал.
Виктор Лошак: Дмитрий Юрьевич, а как в целом меняется языковая картина мира? Больше становится больших языков и меньше маленьких?
Дмитрий Петров: Эволюция языков – это такой процесс, вечный, непрерывный абсолютно. Мы видим, что человечество постоянно хочет находить какие-то общие средства коммуникации.
Всегда, в любом регионе можно было найти такое явление, как лингва франка, то есть язык, объединяющий людей разных национальностей, разных языковых групп. Когда-то в Европе это была латынь. Затем французский. И вот сейчас английский взял эту пальму первенства.
Но я думаю, что мы никогда не будем жить в мире, когда будет господствовать только один язык. Все, что связано с языком, похоже на какие-то другие явления человеческой жизни. Например, на моду. С одной стороны, люди, следующие моде, хотят одеваться как все, а с другой стороны, хотят выделиться, отличаться от других.
И мы видим параллельно разнонаправленные процессы: с одной стороны, глобализацию языковой картины, а с другой стороны – постоянное появление очагов каких-то новых гибридных языков, региональных языков. Ну, собственно, это делает...
Виктор Лошак: Гибридный – это несколько языков, как бы один язык, впитавший другой?
Дмитрий Петров: Да. Есть такое понятие, как «креольские языки». Есть языки, которые, скажем, начинают считаться языками в силу каких-то политических решений. Например, когда-то была единая Югославия, в которой был сербохорватский язык.
Затем отдельные части объявили разные формы этого единого языка отдельными языками, и сейчас мы имеем сербский, хорватский, боснийский, черногорский. То есть любой человек, владевший в Югославии одним языком, вдруг в одночасье стал полиглотом.
Виктор Лошак: Я еще хотел спросить вас о таком этически непростом вопросе для многих. Есть ли верхняя граница для изучения языка? Многие стесняются уже в определенном возрасте начинать изучение языка.
Дмитрий Петров: Надо сказать, что во всем, что связано с изучением языков, не бывает ни слишком рано, ни слишком поздно. Причем тут два интересных момента. Во-первых, исторически мы знаем примеры достаточно известных людей, которые во вполне зрелом возрасте начинали изучать языки.
В частности, в период Российской империи губернаторы отдаленных территорий России (и есть много примеров) изучали персидский, дальневосточные языки, языки местных народов. Это считалось вполне приличным и достаточно уважаемым занятием – изучение языка.
И, кроме того, такой момент: изучение языка имеет очень мощный оздоровительный эффект. Особенно в наше время, когда мы во многом зависимы от гаджетов, от Интернета.
Виктор Лошак: Отвлечься от них?
Дмитрий Петров: Иной раз лень что-то запоминать. Раньше любой из нас знал десятки телефонных номеров и много всего. Сейчас один клик – и ты получаешь нужную информацию.
Изучение языка дает мощный импульс для активной работы мозга. Я знаю даже, что есть такие медицинские исследования, которые говорят, что оказывает благотворный эффект на организм в целом. Поэтому изучайте языки и будете здоровы.
Виктор Лошак: Какой самый сложный язык?
Дмитрий Петров: Объективно, самый сложный язык, который максимально отдален от вашего родного. То есть максимально сложный язык для меня – не тот, что максимально сложен для вьетнамца.
Скажем, для носителей русского языка языки, максимально отдаленные по структуре, – это языки сино-тибетской группы, то есть китайский и родственные ему. Не только потому, что там есть иероглифы и тоновая система. Тут совершенно другая логика, совершенно другой механизм действия языка.
Естественно, все языки индо-европейкой группы, включая большую часть европейских, индийский и иранский языки, они для носителей славянских языков, конечно, ближе.
Виктор Лошак: Вы где-то говорили еще вот о чем: что великое будущее за испанским языком. Вы исходите из того, что в принципе в мире больше людей говорит на испанском? Или исходите из каких-то других соображений?
Дмитрий Петров: Среди больших языков мира два показывают постоянный демографический рост числа носителей: это арабский и испанский. Испанский язык пользуется такими инструментами, как мощный демографический рост.
Развитие испаноговорящих стран, которые постепенно и в экономическом, и в политическом плане становятся более значимыми, и, например, тот факт, что в Соединенных Штатах Америки, основной англоязычной стране, испанский язык стал фактически вторым. То есть есть целый ряд штатов, где можно прожить без знания английского, но трудно сделать это без знания испанского там, где испаноязычное население доминирует и постоянно растет.
Виктор Лошак: Ну, подождите. Ведь английский – это язык Интернета. Как можно его обогнать, если все, кто что-то делает в Интернете, обязаны знать английский?
Дмитрий Петров: Скажем так: если в 1900-е годы английский язык занимал где-то 95-97% всего: всех сайтов, всего, что было в Интернете; сейчас его доля снизилась до 50%.
Виктор Лошак: А остальное – национальные языки?
Дмитрий Петров: На пятки ему стали наступать ряд других глобальных языков, в том числе и китайский, конечно, и в том числе и русский. Русский никогда не выбивался из пятерки основных языков Интернета.
Виктор Лошак: А чем вы, Дмитрий Юрьевич, это объясняете, что русский стоит так высоко, как язык Интернета?
Дмитрий Петров: Все-таки русский язык – это не принадлежность Российской Федерации.
Виктор Лошак: Конечно.
Дмитрий Петров: Это язык, использование которого выходит далеко за рамки России как государства. Большие диаспоры, в том числе деловые диаспоры, то есть не просто люди, которые куда-то переехали, но люди, которые продолжают функционировать с использованием русского языка, разбросаны по всем странам.
И сейчас мы наблюдаем такую интересную деталь: если раньше, когда семья эмигрировала из одной страны в другую, было достаточно одного поколения, чтобы язык старой страны был потерян.
Виктор Лошак: Потерялся.
Дмитрий Петров: Сейчас этого не происходит. Потому что, переезжая географически в другую страну, многие люди, в том числе и молодые, в том числе и дети, сохраняют среду общения в Интернете. Поэтому не важно, какой город у тебя за окном, главное, какова твоя среда общения в Интернете.
Виктор Лошак: Компания в Интернете.
Дмитрий Петров: Конечно. И это один из факторов, который позволяет удерживать язык на приличном уровне.
Виктор Лошак: Вот задам вам вопрос, который вам наверняка много раз задавали, но меня он интересует. Почему эсперанто так и осталось маргинальным, а не стало все-таки языком мира? Это Интернет тоже или какие-то другие причины?
Дмитрий Петров: Пик популярности эсперанто – это первые годы XX века. В 1990 году XX век был объявлен как век благоденствия, когда, наконец, навсегда прекратятся все войны, когда воцарится всеобщее братство. И людям, естественно, нужно общее средство общения.
Поэтому это был не просто язык группы любителей, фанатов идеального языка, потому что с точки зрения лингвистики это идеальный языка, – он становился официальным языком целого ряда международных организаций, которые тогда только начинали создаваться.
Вся эта идиллия закончилась с началом Первой мировой войны. Далее, все прочие события XX века не способствовали продвижению эсперанто.
Виктор Лошак: Ну да.
Дмитрий Петров: Да. И в этой ситуации он мог бы выжить, если бы... Вот для меня всегда язык – это не просто язык как слова и грамматика. Это еще и менталитет, история, традиции. То есть нет народа эсперанто. Нет страны эсперанто.
Виктор Лошак: Нет ядра, то есть.
Дмитрий Петров: Да. Нет ядра, на которое можно было бы опереться. А это необходимо для того, чтоб язык жил. Хотя сейчас мы наблюдаем такую достаточно экстравагантную тенденцию, когда люди массово начинают изучать искусственные языки, например, язык эльфов или язык планеты из фильма «Аватар».
Виктор Лошак: Расскажите подробнее. Мы об этом, наверное, ничего не знаем. Я точно ничего не знаю.
Дмитрий Петров: Значит, это появилось такое направление – искусственные языки для создания Вселенной. То есть сейчас вот эти проекты, скажем, проекты...
Виктор Лошак: На котором мы смогли бы разговаривать, земляне, с кем-то?
Дмитрий Петров: Да. Там «Властелин колец» или «Битва престолов», да, по-русски так называется, – для них разрабатываются специальные языки. Считается, чтобы создать вот некий колорит, некую атмосферу этого мира, этой Вселенной, требуется свой язык.
И, например, вот валирийский, по-моему, его сейчас за деньги изучает четыре миллиона человек.
Виктор Лошак: Четыре миллиона?
Дмитрий Петров: То есть он вот нарушает абсолютно всю логику эволюции языков. Потому что для эволюции языка нужна какая-то мотивация, нужен какой-то стимул. Здесь нет ни экономического, ни... Исключительно эмоциональность ему, то есть быть причастным...
Виктор Лошак: Ну да. Кроме того, отпечатки истории – это тоже язык. А тут какая история?
Дмитрий Петров: Да. Вот мир Гарри Поттера, мир еще кого-то иногда кажется более реальным, чем тот, который тебя окружает. И хочется говорить на его языке.
Виктор Лошак: Тогда возникает вопрос: как создается язык наций? Просто в силу истории этой нации? Или бывают какие-то взрывы в создании языка?
Дмитрий Петров: Есть несколько способов формирования литературных языков. Это или некая личность, это есть культуры и страны, где литературный, официальный государственный язык вокруг некоего королевского двора. Допустим, французский язык, это язык Парижского королевского двора.
А скажем, итальянский язык – нет. В Италии никогда не было единого государства. Там группа людей, которые создали литературу: Боккаччо, Петрарка, Данте. Они жили – это в основном Тоскана, Флоренция. Но их произведения нашли отклик во всех, даже в отдаленных регионах Италии и Франции, где говорили на других диалектах, но понимали.
И есть, наконец, еще способ: когда язык возникает с принятием религии. Соответственно, на национальный язык переводится Священное Писание: Библия, Коран, буддийские сутры. И это служит первым толчком формирования литературы.
Виктор Лошак: А какая страна рекордсмен по знанию языков? Швейцария? Где люди знают больше одного языка.
Дмитрий Петров: Если взять Европу, в Европе есть такая маленькая страна, называется Люксембург. Там три государственных языка: французский, немецкий, люксембургский.
Виктор Лошак: Конечно.
Дмитрий Петров: Плюс обязательное знание английского и практически обязательное знание нидерландского. То есть житель Люксембурга, знающий пять языков, не считается полиглотом, а считается вполне заурядным гражданином своей страны.
Есть небольшое государство Сингапур, в котором четыре официальных языка. Причем все они относятся к совершенно разным языковым группам.
Виктор Лошак: Я считал, что там китайский язык.
Дмитрий Петров: Китайский, английский, малайский, тамильский – официальные языки для Сингапура.
Виктор Лошак: Очень интересно!
Я понимаю, что очень многие из тех, кто нас сейчас смотрит, ждут от вас каких-то рецептов по изучению языков. Я думаю, что они могут их получить не только из нашей передачи. Но если б у вас спросили очень коротко сформулировать, вот в чем ваш рецепт познания языков? Вот то, о чем вы уже сказали – это когда вы даете языку какие-то еще дополнительные признаки.
Дмитрий Петров: Угу. Ну, если вот буквально несколько таких в тезисном формате...
Виктор Лошак: Да. Да.
Дмитрий Петров: Первое: современный человек, изучающий иностранный язык, особенно взрослый, должен делать это в очень компактном формате. Если вы решили изучать язык, занимаясь им по часу в неделю, это бессмысленная трата времени, денег и энергии.
Надо собраться, мобилизовать себя на неделю, на две, чтобы вот первая атака на язык была максимально интенсивной. После чего мы переходим к правилу, что непрерывность важнее объема времени. Когда мы ставим...
Виктор Лошак: То есть непрерывность в короткий срок важнее, чем большой срок, но с перерывами?
Дмитрий Петров: Да. Иногда мы можем поставить себе нереалистичную задачу. Допустим: «Отныне я каждый день буду заниматься по два часа английским языком». Не будешь. А вот пять минут найдется всегда. И эта непрерывность, она позволяет психологически заставить новый язык перестать быть чужим, перестать быть страшным, стать немножко родным. Это важно.
Второй момент – это то, что вы вспомнили, это ассоциативность. Язык не должен восприниматься просто как слова, написанные в учебнике, или на доске, или где-то еще. Язык – это музыка, это люди со своими лицами, со своим голосом. Язык – это какие-то привычки, какие-то жесты. Обязательно кухня. Обязательно краски. То есть это должно быть живое.
И, наконец, такой третий момент: язык – это сочетание абсолютно математических принципов. То есть вот несколько алгоритмов, которые должны быть доведены до автоматизма. Объем – не более чем таблица умножения. То есть несколько важных механизмов, которые надо на уровне спортивных движений в себя загрузить.
Виктор Лошак: На уровне автоматики?
Дмитрий Петров: Да.
Виктор Лошак: Вы не просто полиглот. Вы, в общем, такой полиглот в третьем поколении, или даже в каком-то четвертом: ваша бабушка знала несколько языков, ваш папа был известным переводчиком, ваш сын переводит, ваша жена знает несколько языков. Что вот такое познание языков, оно может быть генетическим? Или это просто в семье так воспитывались?
Дмитрий Петров: Когда есть некая среда в семье, в доме, это, разумеется, определенный бонус. Я в каком-то смысле вырос в окружении языков. Хотя никто никогда меня к этому не склонял и не заставлял. То есть заниматься языками – это был абсолютно мой выбор. Но когда в доме книги, в доме люди, которые могут что-то сказать там...
Виктор Лошак: Переходят с языка на язык.
Дмитрий Петров: Моя бабушка мне читала в детстве сказки на разных языках. Ну, у нее еще было такое старое гимназическое образование, такое дореволюционное. Это способствовало. Все это создает благоприятную комфортную среду.
Виктор Лошак: Это говорит, кстати, о качестве гимназического образования. Если она, будучи бабушкой, могла после гимназического образования читать сказки, то, конечно.
Дмитрий Петров: Да. Причем она училась в женской гимназии, но постоянно завидовала братьям своим, которые учились в мужской гимназии и которые учили еще, кроме этого, латинский и греческий. Кроме французского, немецкого.
Виктор Лошак: Но латинский и греческий – это базовые языки для полиглота, для человека, который знает много языков? Он обязан знать латинский и греческий?
Дмитрий Петров: Я очень люблю древние языки. Поэтому, может быть, у меня так сказать, это мое личное. Я считаю, что для лингвиста это очень важно. Это очень важно, ну хотя бы в какой-то степени быть знакомым как минимум с латинским языком. Потому что латинский язык, он продолжает жить и формировать новые понятия и терминологию. И масса каких-то явлений, которые приходят в нашу жизнь, новейшие, технологические, тем не менее, они несут в себе...
Виктор Лошак: На базе латинского?
Дмитрий Петров: Часть латинского. Да.
Виктор Лошак: Еще знаете, каким опытом поделитесь: вот сейчас очень модно, да, наверное, и правильно стало воспитывать детей в многоязычии. Ну, хотя бы в двуязычии. Многие предпринимают всяческие шаги: специальные детские сады, многие нанимают нянь с иностранным языком и так далее, и так далее.
Ваши дети воспитываются и воспитывались со знанием нескольких языков. Дайте какие-то советы людям, которые хотели бы так же поступить.
Дмитрий Петров: Ну, наверное, сразу надо оговориться, что, с одной стороны, ранний нежный возраст, он предрасполагает к освоению языков. И то, чему мы научились в раннем детстве, остается с нами, по сути, навсегда.
С другой стороны, это достаточно опасный возраст в том плане, что чрезмерное насилие, навязывание, да не только языка приводит к отторжению. Я встречаю взрослых людей сейчас, которые приходят обучаться, которые жалуются на такие детские травмы. Говорят: «Меня в детстве так заставляли учить, что я невзлюбил языки на всю жизнь».
Виктор Лошак: Вот один из таких клиентов.
Дмитрий Петров: «Ну а сейчас чувствую, что надо». Вот поэтому очень трепетно, очень нежно надо к этому относиться.
Виктор Лошак: То есть никакого давления?
Дмитрий Петров: Да. Если вы почувствовали, что ребенок не хочет, не готов, оставьте его в покое. Подойдите к нему завтра. У него будет другое настроение, и он, вполне вероятно, откликнется.
Виктор Лошак: Вы преподаете студентам. Раньше институт назывался «Мориса Тореза», да?
Дмитрий Петров: Да.
Виктор Лошак: А сейчас он как называется? Языковый...
Дмитрий Петров: Московский государственный лингвистический университет.
Виктор Лошак: Угу. К какому будущему готовят себя ребята, которые идут в этот университет?
Дмитрий Петров: Ну, надо сказать, что в отличие от прежних времен, очень редко кто из них собирается заниматься языком в чистом виде. То есть они настроены на то, чтобы обязательно совмещать знания и умение работать с языком, с чем-то еще. Будь то...
Виктор Лошак: То есть еще с какой-то профессией?
Дмитрий Петров: Да. Будь то какая-то экономическая сфера или какая-то иная. Ну, то есть язык, плюс. Перспективно сейчас... Ну, вообще, наверное, на стыке разных специальностей рождаются новые профессии. И вот я думаю, что в нашу эпоху только язык – это недостаточно. Должен быть, во-первых, не один язык. И, во-вторых, не только язык.
Виктор Лошак: Кстати, это очень хорошо говорит о молодежи. То, что вы сейчас рассказываете.
Дмитрий Петров: Да. Нет, был какой-то период такого... всеобщей рассеянности. Но сейчас, очевидно, подросло поколение, которое ищет большей определенности.
Виктор Лошак: Яснее понимает, что нужно.
Дмитрий Петров: И часто ее находит. Да.
Виктор Лошак: Дмитрий Юрьевич, я всех в конце разговора спрашиваю о правилах жизни. Какие они у вас?
Дмитрий Петров: В целом? Или в связи с профессией?
Виктор Лошак: Как угодно. И так и так.
Дмитрий Петров: И в связи с профессией, и в целом все, что делается, в том числе и профессиональная деятельность, я стараюсь окружать это комфортной, дружелюбной атмосферой.
И те правила, которые я для себя выявил и при изучении языка, и при обучении кого-то еще языкам, – очень важное правило, которым многие пренебрегают: прощайте ошибки и не бойтесь совершать их сами. Потому что ошибки – это наши учителя.
Виктор Лошак: Дмитрий Юрьевич, вы знаете, я понимаю, почему вы не просто знаете языки, а любите их. Вот я понял из нашего интервью. До этого я этого не понимал. Потому что вы к языку, как вы и сами сказали, относитесь как к живому, как к человеку.
Дмитрий Петров: Наверное, так.
Виктор Лошак: Спасибо вам большое!
Дмитрий Петров: Спасибо!