Екатерина Митрофанова: Хорошо знать о том, как живут другие, что есть в мире. Но это разнообразие позволяет понять, что то, как у нас, - это самое правильное для нас, самое лучшее
Екатерина Митрофанова: Хорошо знать о том, как живут другие, что есть в мире. Но это разнообразие позволяет понять, что то, как у нас, - это самое правильное для нас, самое лучшее
https://otr-online.ru/programmy/ochen-lichnoe-s-viktorom-loshakom/ekaterina-mitrofanova-83051.html 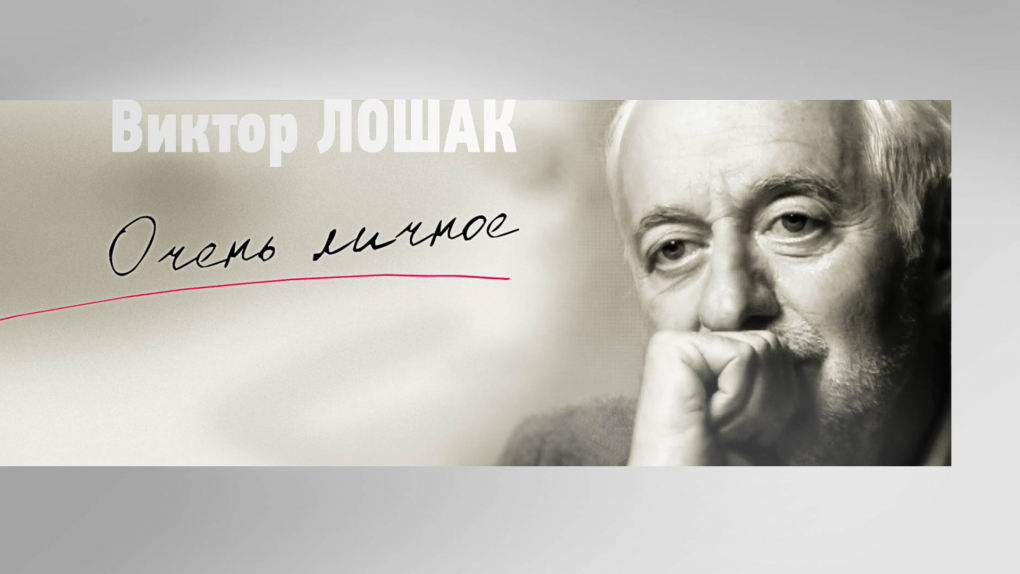
Виктор Лошак: Это «Очень личное» – программа о принципах и правилах жизни. Что такое российская семья? Нужны ли нам мигранты? Почему биологические молодость и старость не совпадают с социальными? Об этом наш разговор с Екатериной Митрофановой, заведующей лабораторией социально-демографической политики Института демографии имени Вишневского Высшей школы экономики.
Екатерина Сергеевна, вы знаете, мне кажется, что на изломе эпох к людям вашей профессии, к демографам, к социологам возникает у общества особенный интерес. Вот отсюда и наша, наверное, с вами беседа. Но хотел бы вначале спросить вас: чем занимается Институт демографии Высшей школы экономики, в котором вы работаете? Какие главные проблемы?
Екатерина Митрофанова: Институт демографии занимается демографическими процессами, которых много. Когда мои знакомые узнают, что я демограф, все сразу спрашивают: «Ну что, у нас демография поднимается? Поднялась?» Подразумевая рождаемость. Но демография – это гораздо шире, чем рождаемость. Это эмиграция, и брачность, и смертность, и здоровье. Вот этими всеми процессами мы занимаемся в институте.
Виктор Лошак: Я хотел бы в начале нашего разговора поговорить о российской семье: как она устроена, как меняется? Я знаю, что это зона ваших интересов.
Екатерина Митрофанова: Семья – да, очень интересный объект для исследования. И можно много копий сломать, рассуждая, что это такое – семья. Это общий холодильник. И неважно, какое количество людей. Это может быть одна бабушка, она тоже семья. Или нет. Бабушка и внучка – это семья или нет? Или обязательно должна быть брачная пара в центре этой семьи. Поэтому здесь вот, какой учебник мы откроем, какого исследователя мы будем изучать, вот такое определение мы найдем.
Но по большому счету можно сказать так, что семья действительно – это люди, которые объединены родством, которые живут вместе. И вот этот общий холодильник – как-то выкристаллизовалось, что это действительно некоторый такой фактор, который говорит о том, что это семья. А не просто какое-то домохозяйство: люди, которые живут и общаясь друг с другом, просто сожительствуют и при этом не являются семьей, вот в таком философском что ли плане, настоящей семьей.
Но семья действительно претерпевает изменения. Потому что если раньше семья была более такая и вертикальная с одной стороны, то есть много было поколений, так как была рождаемость совершенно ранняя, то можно было жить под одной крышей со своими родителями, бабушками там, прабабушками и так далее.
Но при этом она была очень такая горизонтальная, растянутая в горизонталь: очень было много братьев, сестер, дядей и тетей, вот эти все девери, свахи. Тогда это все как раз использовали, потому что когда мы живем под одной крышей и так много вот этих родственников...
Виктор Лошак: Это уже клан.
Екатерина Митрофанова: Да! И тогда, конечно, нужно хотя бы понимать: кто это и как к ним обращаться? И так далее. Сейчас семья стала нуклеарной. То есть что такое нуклеарный? Это ядро: мама, папа и дети. Там ребенок или несколько детей. Все, что выходит за рамки этого – там бабушки, дедушки, дяди, тети – это уже больше расширенная семья. И сейчас именно нуклеарных семей становится гораздо больше.
Виктор Лошак: Для демографа семья и домохозяйство – там знак равенства или нет?
Екатерина Митрофанова: Ой, это разные вещи. Домохозяйство – это скорее экономический конструкт, который позволяет именно считать расходы-доходы различные там. А семья – это все-таки более такое социологическое, демографическое понятие, наверное, более гибкое.
И может быть так, что это одна семья, но она состоит, допустим, из двух домохозяйств. Одно домохозяйство – это, допустим, стареющие родители. И второе домохозяйство – это, допустим, их сын и его жена. Вот у них могут быть разные холодильники. Они могут все абсолютно по-разному организовывать.То есть у них вот свои комнаты, свои жизни. То есть они фактически являются одной семьей, потому что сын принадлежит этим родителям по крови. Но как домохозяйство – это два разных объекта.
Виктор Лошак: То есть, я так понимаю, что вы их учитываете как одну семью, а те, кто занимается экономикой, учитывает их как два домохозяйства?
Екатерина Митрофанова: Вот это всегда серьезный вопрос. То есть, когда мы проводим какое-то исследование, мы всегда во главу угла ставим то, как мы эти понятия будем использовать в нашей работе. Поэтому, когда мы проводим, например, соцопросы, очень часто мы берем домохозяйство как единицу. Именно домохозяйство. Не семью. Потому что домохозяйства просто считать легче.
А семья – это же больше про самоопределение. То есть я могу, например, жить своей нуклеарной семьей, и у нас там живет моя сестра. То есть моя сестра – по крови только мне сестра. А остальным-то она по крови, ну как бы вот не является...
Виктор Лошак: Но это одна семья?
Екатерина Митрофанова: Вот как они сами решат. Вот они скажут: «Конечно, мы одна семья». Ну, разумеется. А как по-другому? Но демографы, которые будут изучать, например, рождаемость, – их интересует именно нуклеарная семья. То есть они вот эту сестру, скажут: «Нет, подождите. Для наших расчетов вы не являетесь в данный момент семьей».
Поэтому простого ответа, сказать вам вот только так и никак по-другому, я дать не могу. Просто потому, что его нет ни в науке, ни в обществе. Это подвижный...
Виктор Лошак: Тогда дайте мне ответ на пару конкретных совершенно вопросов, которые подтверждаются цифрами. Одна из тревожных цифр последнего времени – это рост домохозяйств, где один всего человек. С чем это связано? Почему так?
Екатерина Митрофанова: Сейчас мы поймали большое количество вот этих людей, которым 20, 30, 40 лет, которые в данный момент, например, больше сфокусированы на карьере. Они переехали в большой город. Они уже не студенты. Для студента нормально жить, например, со своими там одногруппниками, снимая жилье или в общежитии.
А для человека более старшего возраста все-таки немножко сложнее вот именно с кем-то сгруппироваться. И поэтому мы наблюдаем много таких одиночных домохозяйств.
Я на самом деле это вижу, как прогресс и как шанс для этих людей. Лучше, во-первых, понять: кто они? Потому что, когда живешь один, как-то немножко лучше понимаешь, чего ты хочешь на самом деле. Во-вторых, это шанс действительно за это время, что они живут одни, построить ту карьеру, которую они хотят, реализовать те желания и замыслы, которые у них были.
Для того чтобы, вступая уже в следующий этап жизни, заводя семью, у них не было тех сожалений, раскаяния, отчаяния, которые мы можем наблюдать у тех поколений, которые очень рано вступили в брак. И уже будучи сорокалетними, имея уже детей там 15–20 лет, они оглядываются назад и говорят: «Так я всю свою молодость потеряла. Потому что я там три года всего лишь походила куда-то там, поразвлекалась. А дальше у меня появился ребенок».
А вот это поколение новое – оно как будто бы немножко в более, наверное, правильной последовательности...
Виктор Лошак: Простите! То есть вы считаете, или исследование показывает, что одиночки – это среднее поколение где-то?
Екатерина Митрофанова: Вот обычно, обычно это были старики. Просто потому что, когда, например, это сельская местность, откуда просто вымывает молодежь, потому что они уезжают в город получать образование, вот эти деревни остаются наполненные только пожилыми людьми. И действительно, так получается, что очень часто они доживают свою жизнь, будучи под крышей, в одиночестве.
Но сейчас как раз появилась новая тенденция: именно вот этой вот прослойки людей среднего возраста, для которых появилась возможность жить в одиночестве. Потому что, во-первых, в советское время, как мы понимаем, квартиры до определенного времени купить просто нельзя было. А получить можно было от работодателя для расширения семьи, если ребенок родился.
Виктор Лошак: Облегчение квартирного вопроса, оно делает вашу работу проще? То есть яснее определяется семья, квартира?
Екатерина Митрофанова: Мне кажется, наоборот, сложнее. Потому что можно ли назвать семьей человека, который живет один? Вот это тоже вопрос, который демографы и социологи себе задают. Потому что один человек – это домохозяйство точно. Потому что у него есть бюджет, расходы-доходы и прочее. Но вот семья ли он – это вот очень сложный вопрос.
Поэтому, наоборот, чем более разнообразные конструкции в брачно-семейной сфере, тем сложнее демографам. Потому что ну ладно, хорошо – человек живет один. Но он может состоять, например, в отношениях, которые называются как бы «дистанционными», на расстоянии.
То есть у него есть постоянный партнер, который по какой-то причине уехал на какое-то время, допустим, на два года получать где-то образование. Они в отношениях, они могут быть даже расписаны. Но они живут через много-много километров. Вот тогда что семья? Как их посчитать? Он в одной стране, она в другой стране. Куда приписывать их какие-то демографические события?
То есть наоборот, чем разнообразнее, тем сложнее. Но для человека это огромное достижение. И человек может вот из этого огромного набора разных вариантов выбрать для себя то, что он по-настоящему хочет и что ему позволит лучше реализовать свои желания, запросы и так далее.
Виктор Лошак: Как демографы отвечают на рост цифр разводов? Вот у нас половина браков, дальше больше браков заканчивается разводами. Что вы здесь фиксируете? Почему это происходит?
Екатерина Митрофанова: Я не буду углубляться в дебри...
Виктор Лошак: Психологические дебри?
Екатерина Митрофанова: Нет. Математические. Потому что на самом деле считать разводы нужно не так, как это нам подается: что вот каждая вторая семья распадается. Нужно смотреть, в каком году брак зарегистрирован. И потом, когда люди разводятся, уже смотреть из числа зарегистрированных, сколько распадается. И там будут другие цифры на самом деле.
Виктор Лошак: Меньше?
Екатерина Митрофанова: Они будут меньше. И они будут по разным поколениям разные. То есть, например, у поколения с советским воспитанием, военным, послевоенным разводов было меньше. Потому что просто было больше стигмы, что там нельзя разводиться.
Но в то же время была характерная диспропорция полов. То есть очень мало мужчин и очень много женщин. Это вот был один такой момент, послевоенный. И он как раз мог стимулировать семьи разводиться просто для того, чтобы вот это маленькое количество мужчин могло дать потомство большему количеству женщин.
То, что разводы: иногда происходят у нас всплески, иногда они снижаются. Очень часто это обусловлено, например, какими-то законодательными мерами. Допустим, если мы посмотрим на статистику разводов в момент введения локдаунов, мы увидим, что разводов почти не было.
В ковид закрыли просто-напросто ЗАГСы. Люди не могли пойти разводиться. И поэтому после того, как их открыли, у нас жуткий всплеск. И для человека, который не понимает причинно-следственной связи, может сложиться ощущение, что после ковида все решили разом развестись. То есть все так друг другу надоели, что решили пойти разводиться.
Виктор Лошак: Кстати, а так это и трактовалось.
Екатерина Митрофанова: Так и трактуется. Так и подается. А на самом деле это проблема в том, что просто ЗАГСы были закрыты – ЗАГСы стали открыты. И если мы посмотрим на статистику брачности, мы увидим ту же самую динамику: люди не могли вступать в брак – и вот люди смогли, и они пошли.
Это называется «компенсация отложенных событий». Например, когда происходят какие-то катаклизмы: в эпидемию, войны и прочие там рецессии и так далее, люди очень часто откладывают рождение. Но они их не откладывают в небытие, они просто их отодвигают на благоприятный момент. И поэтому всегда мы, если посмотрим там, во время Великой Отечественной войны рождаемость вообще была просто на нуле. А потом всплеск. Вот этот беби-бум.
Виктор Лошак: Беби-бум.
Екатерина Митрофанова: Откуда это берется? Вот как раз компенсация. Поэтому в демографии нужно с цифрами работать очень осторожно.
Виктор Лошак: Насколько в такой тонкой теме, как семейная жизнь, рождение детей, может быть сильно влияние государства? Вот сейчас государство очень хочет, чтобы семьи сохранялись, чтобы они были многодетными. Довольно сложная проблема. Такого прямого решения здесь нет.
Екатерина Митрофанова: По большому счету, если так вот на две категории разделить, есть два подхода. Один: это человек для государства. Второй – это государство для человека. То есть, с одной стороны, если у нас государство имеет какие-то планы, например, плановая экономика: государство точно понимает, сколько оно построит заводов, сколько ему нужно сюда рабочих мест, сюда студентов для получения образования и так далее.
Государство все распланировало и сказало, что нам для поддержания экономики на нужном уровне нужно столько-то людей. Оно дало задание соответственно университетам, школам-садам и людям, что нам нужно много детей. И, соответственно, государство может...
Виктор Лошак: Мне кажется, задание людям – это самое сложное.
Екатерина Митрофанова: Ну, в советское время это было очень даже эффективно. Почему? Потому что было много разных мер. Был налог на холостяков и бездетных. Была обязательная отработка после получения образования, которая была связана, скажем, с принудительной миграцией. Потому что распределить могли вообще в любую точку страны, и, соответственно, человек должен был поехать.
Различные были вопросы, связанные с регистрацией. Потому что раньше была обязательная регистрация в паспорте, чтобы где-то жить и куда-то переехать. Поэтому в советское время политика – вот эта ограничивающая, пронаталистская – она была достаточно эффективна. Потому что человеку давался очень четкое ТЗ, что надо (до 20 для женщины, для мужчины до 25) закончить образование, трудоустроиться, создать семью. Вот прям такое ТЗ.
Если поспрашивать людей, которые социализировались в советское время, очень многие считали именно так. Или думали, что: «Если я до 25-ти не родила, я уже старородящая». И это реально акушеры говорили: «Ты старородящая». Это прям в карточке писалось. То есть женщина, с одной стороны, как бы вот были меры, которые на нее давили, что придется платить налог: 6% от своей зарплаты, если у тебя нет ребенка.
Виктор Лошак: Простите. А разве женщины тоже платили налог?
Екатерина Митрофанова: Женщины тоже платили. Там была разница в том, что мужчина платил в любом случае, если он в браке – не в браке. А женщина платила, только если она в браке, по-моему. То есть там вот эта была разница. На мужчин, короче говоря, сильнее давило, но на женщин тоже давило.
И даже там не спасало, то есть, например, родили ребенка, но он умер, то все равно через какое-то время человек платил налог. То есть достаточно жестко стимулировали именно деторождение. Поэтому у человека в голове начинает складываться определенный календарь, которому он пытается следовать, такой институциональный календарь.
И, конечно, когда он не успевает к этим дедлайнам социальным, у него начинается тревога: «Я не такой. Что-то со мной не так». «Все мои подружки уже в браке, у них уже там по два ребенка. Уже даже развелись. А я еще пока не вышла замуж». И тогда, конечно, в тех условиях у нас была достаточно высокая рождаемость. Во-первых, это было обусловлено тем, что был послевоенный бум, то есть компенсация вот этих отложенных рождений.
Во-вторых, многочисленное поколение, которое родилось – оно дальше вот как раз в 1980 годы тоже много рожало. И, соответственно, вот это такое сложение усилий государства и просто демографической структуры дало достаточно благоприятный демографический фон.
А в 1990-е все пошло не так. Экономическая неопределенность – она всегда обрушает рождаемость. Всегда! Люди замирают на три, пять, десять лет, откладывая рождение. В современной России, то есть после 1990-х, подход стал больше все-таки: государство для человека.
Ну, по крайней мере, и декларировалось так, и действительно, когда мы смотрим на меры, которые принимаются, мы видим мало рестрективных мер. Мы не видим, что нам нужно к какому-то возрасту что-то успеть и платить налог, если у нас нет ребенка. И видим очень много помогающих мер.
Демография – она, если представить ее как фигуру с большим количеством граней, если мы одну грань начинаем очень сильно пестовать, – она у нас выпирает, она всю конструкцию нам заваливает. Поэтому, когда мы, например, пытаемся повысить рождаемость, все силы в этот процесс бросаем – мы можем тем самым порушить другие сферы.
Ну, например, в 2007 году как раз был введен маткапитал, который действительно показал, что до 2015 года вклад вот этой меры в рождаемость действительно был. Ну, то есть он прям заметный.
Но, к сожалению, есть другой, скрытый механизм: когда мы повысили рождаемость в тот момент, когда в репродуктивный возраст вышло многочисленное поколение 1980 годов рождения, мы тем самым вот эту нашу демографическую пирамиду, которая и так имеет волны (то есть у нас: то большое поколение, то маленькое поколение), мы сделали эту волну еще острее. То есть у нас и так должна была быть высокая рождаемость.
Виктор Лошак: А потом спад произошел?
Екатерина Митрофанова: Вот! В этом проблема. Мы хотели как лучше: повысить рождаемость, чтобы у нас не было демографического креста. То есть когда количество людей, которые умирают, больше, чем количество людей, которые рождаются. Был «Русский крест» в 1990 годы.
Но, к сожалению, достигая эту цель, мы обрушиваем структуру демографическую. А это очень важная компонента. Потому что когда у нас то много контингентов (студентов, школьников, рабочих), то мало, это говорит о том, что нам надо постоянно перестраивать инфраструктуру: то открывать новые школы, то закрывать эти школы. И так каждые 10, 15, 20 лет.
Виктор Лошак: Как в этом смысле страна у нас делится? Рождаемость.
Екатерина Митрофанова: Ой! Страна делится. Я бы сказала, она делится больше не географически, а с точки зрения: город – село. То есть, если мы посмотрим на города, они будут очень-очень похожи друг на друга. То есть урбанизация – она, правда, выравнивает. Потому что у нас выравнивается доступ к образованию, к контрацепции, доступ к информации. И это все делает людей очень похожими друг на друга.
А вот село – это все-таки то место, где более традиционные модели поведения живут дольше. Просто потому, что у них меньше доступа вот как раз к информации, образованию и так далее. И контрацепции. Ну, одно дело – я пошла в аптеку, купила какую-то контрацепцию: анонимно, в любое время дня и ночи, заказала себе доставку. А другое дело – я пошла на деревне, где меня знает каждая продавщица в любом магазине и что-то себе купила. И про это сразу знают все подруги моей мамы. И прочее-прочее.
Поэтому, конечно, очень много факторов в сельской местности – они сдерживают, скажем так, модернизированные вот эти вот паттерные поведения.
Виктор Лошак: Я никогда не думал о том, как влияет общественное мнение. А ведь действительно.
Екатерина Митрофанова: Очень, очень. Ну и плюс к этому, вот как раз мы сейчас свяжем то, что я говорила, и вопрос, который вы задали, что действительно, вот мы отдаем региональный материнский капитал.
Я живу, например, в каком-то городе N. Я знаю, что в соседнем городе B дают какой-то другой маткапитал просто потому, что это там другие регионы, допустим. А мы там ограничим где-то. Я могу просто поехать в этот регион, в этот город – родить там, получить те капиталы, которые мне нужны, и вернуться к себе. Для статистики это будет, что рождаемость здесь, где дают больше, выше. Но по факту я вернусь к себе и создам дополнительную нагрузку на инфраструктуру в своем месте рождения.
Поэтому здесь вот как раз очень важно понимать, что на рождаемость влияет в том числе миграция, возможность для человека переехать. На показатели рождаемости, которые мы в итоге получаем, влияет очень много бюрократических вещей.
Например, есть Москва и есть Московская область. Конечно, люди, которые живут в Московской области, которым 40 минут ехать до Москвы, они поедут рожать в Москву. Получается, что у нас в Московской области рождаемость маленькая, в Москве – гигантская.
Виктор Лошак: Как меняется за последнее время гендерное поведение женщин и мужчин? У мужчин меньше изменений относительно традиций? А у женщин больше, да?
Екатерина Митрофанова: Ровно наоборот.
Виктор Лошак: Наоборот?
Екатерина Митрофанова: Да. И опять здесь очень важно смотреть на город и село. Мужчины и женщины в городе почти неотличимы. Я прям рассматриваю реальные биографии реальных людей: в каком возрасте, какие события? Вообще непонятно, кто это: мужчина или женщина? То есть они настолько одинаково, даже в одинаковом порядке, с одинаковым таймингом эти события обретают, что сложно сказать.
Виктор Лошак: То есть самое удивительное, что нельзя отличить строительство карьеры у мужчин и у женщин?
Екатерина Митрофанова: Да. Да-да. Вот на селе на самом деле разница колоссальная. У женщин там поведение у молодых поколений почти неотличимо от предыдущих поколений: они примерно в таких же возрастах вступают в браки, рожают детей и теряют очень многие возможности трудоустройства – то ли по своему выбору, то ли потому, что уже сели, скажем так, с ребенком и не хотят уже там по какой-то причине выходить.
Но на селе, правда, очень много женщин без образования и без работы. Ну, как бы вот без карьеры.
Виктор Лошак: А если взять по поколениям: вот самое молодое поколение, вошедшее в брачный возраст, чем его поведение отличается?
Екатерина Митрофанова: Если брать самое молодое поколение, это так называемые «зеты». Это те, кто родился после миллениума, после 2000 года. Это совершенно новые люди. Просто потому, что они уже цифровые аборигены. То есть мы с вами цифровые мигранты: мы в цифровой мир как бы вошли.
А вот эти люди – новые молодые поколения, они уже совершенно другие. Потому что вот эти цифровые технологии – они убирают ощущение лимита, ощущение ограниченного пространства, ограниченного выбора.
Если мы посмотрим статистику, вот я совсем недавно видела инфографику: как раньше знакомились, где раньше знакомились. Раньше знакомились на работе, друзья друзей, в библиотеках и так далее. Сейчас почти там 90% – это онлайн. Они понимают сейчас, что в любой момент они могут просто закинуть свою анкету куда-нибудь на дейтинговый сервис и найти себе партнера в течение нескольких дней.
Этот партнер может быть лучше или хуже, подходить больше или меньше. Но сам факт того, что есть рынок брачный, который постоянно, 24/7 открыт и доступен. Поэтому сейчас все-таки люди отношения сохранять так сильно не стремятся. Просто потому, что понимают: рынок огромный. Ну, мало того, что мы просто вышли из реального мира в виртуальный, так мы еще и вышли за границы своего государства.
Мы можем для себя рассматривать весь мир как брачный рынок, весь мир как рынок труда. Для этого поколения просто вот психология принятия решения поменялась. Они вообще по-другому подходят к этому вопросу. И, конечно, мы видим, что не стремятся вступать в брак. Партнерство. То есть незарегистрированные отношения – они стали очень популярными. Это стало дебютным демографическим событием.
Виктор Лошак: Есть ли где-нибудь в мире пример, когда удалось государству поднять рождаемость, укрепить семью? Потому что это ведь тенденция общая.
Екатерина Митрофанова: Да-да. Абсолютно. Абсолютно. Есть один пример: Франция, которая 100 лет старалась ненасильственными методами, вне какой-то прямой агитации, давать людям просто возможности для разнообразного поведения. То есть давать возможность тем, кто не хочет детей, их не иметь, делать карьеру. А тем, кто хочет детей, иметь их столько, сколько они хотят там: пять, шесть, сколько угодно.
Вот. Они сто лет экспериментировали, мучились там, грызли этот гранит науки, чтобы понять, какая взаимосвязь. Они смогли года на два поднять свою рождаемость выше уровня простого воспроизводства. То есть два и один ребенок на одну женщину. А потом опять. У них сейчас 1,8.
Ну, то есть они вбухали кучу времени, кучу средств. Они дали своим людям огромное количество инструментов. То есть это не только инструменты типа маткапитала. Это взаимодействие с работодателем, это возможность для мужчин и для женщин совмещать работу и родительство. Это огромный комплекс мер. И тем не менее, на пару лет хватило, а потом опять все под линию простого воспроизводства.
Если мы посмотрим развитые страны, ну вот все находятся под этой линией. Ни у кого нет своего чистого воспроизводства населения. Воспроизводство населения есть только в странах Юг мира, то есть это Африка, это Азия.
В Азии уже, как мы знаем, тоже сейчас самая низкая рождаемость – это Южная Корея: 0,8. Они сейчас – просто сюжеты я уже не переставая, тоже вижу, везде их показывают, что они не заводят детей вообще. Они заводят домашних животных. Они их сажают в коляски и с этими колясками просто ходят вот везде, как с обычными детьми.
Ну вот, настолько меняется представление о... Вот мы говорили, что такое семья. Вот эта вот пара, которая идет по торговому центру, у них в коляске какой-нибудь шпиц сидит. Вот они – семья?
Виктор Лошак: Ну хорошо. Хорошо, Екатерина Сергеевна. Я думаю, что у всех возникает вопрос: а почему? Что случилось именно в этой стране, что там такая низкая рождаемость и такие повадки?
Екатерина Митрофанова: Понимаете, у каждой страны есть очень много факторов, которые приводят к определенному поведению.
Мы знаем, что в Южной Корее, во-первых, там очень серьезная массовая культура. Там K-pop, который по всему миру идет. Там очень специфическое отношение молодежи в принципе к своему внешнему виду, позиционированию в обществе, к важным событиям жизни, которые они хотят иметь. То есть они настолько перестроили свое сознание под новые реалии, под возможности современного мира.
Виктор Лошак: То есть в этой массовой культуре ребенок не является доминантой?
Екатерина Митрофанова: Ребенка в плане в проекте жизни, вот именно для 20-летних, нет. Он появляется позже. Просто мы сейчас, когда схватываем вот эти тенденции, мы очень часто схватываем людей на определенном этапе жизни. Они, если их спросить сейчас, они могут даже искренне верить, что они и не хотят этих детей, и никогда не захотят. И это их личный выбор. И они его сделали, основываясь вот на этом, на этом, на этом.
Но когда проходит время, все равно человек меняется, меняется его психология. И он может прийти к тому, что ему хочется ребенка или пять детей. А может и не прийти.
Виктор Лошак: Скажите, а вот такой метод, как открытие страны для миграции?
Екатерина Митрофанова: Вот! Для государства, которое сталкивается с какой-то проблемой в демографической структуре, всегда есть опция каким-то образом залатать свои вот эти вот демографические дырки на пирамиде за счет миграции.
Но миграция, конечно же, привносит новые проблемы. Потому что не все государства готовы к тому, что к ним приезжают не такие же, как мы, готовые сразу жить на нашей территории, а другие люди, которые выросли в другом месте, с другими привычками, с другой конструкцией семьи, с другим отношением к женщине, к мужчине и так далее.
И государство должно быть к этому готово. Общество должно быть к этому готово. И это должна быть работа. То есть если мы понимаем, что нам уже никак без миграции, то есть вот ну все, это будет тогда конец демографии, то мы должны тогда в обществе этот момент обсуждать. Это должно быть решение людей все равно. Они должны это видеть, как одну из возможностей.
Виктор Лошак: Вот вы на какой позиции стоите: закрыть страну от мигрантов, открыть страну мигрантам?
Екатерина Митрофанова: Вот именно для того, чтобы понять, как же все-таки нам правильнее поступить, нам очень важно проанализировать, как другие страны, уже там много лет назад или сейчас, поступают с подобной проблемой.
В России, в Советском Союзе всегда была все-таки политика того, что у нас существуют разные культуры, никто никого не смешивает, никто никого не принуждает к какому-то там, например, языку специфическому.
Что же нам, имея уже такой багаж, делать сейчас? Ну, мы точно понимаем совершенно, то есть это надо просто посмотреть один раз на демографическую пирамиду и понять, что примерно лет через 15–20 у нас будет такая ситуация, что на одного трудоспособного будет приходиться порядка двух иждивенцев, так называемых. То есть это пенсионеры и дети.
Виктор Лошак: То есть с экономической точки зрения мигранты нужны?
Екатерина Митрофанова: Да. Вот мы говорили, что, если есть какие-то неровности в демографической пирамиде, ее можно закрывать мигрантами. То есть, по сути, для того чтобы как-то поддержать вот это малочисленное поколение, которое будет работать за всех, нам надо приглашать мигрантов.
Но опять же, если мы это будем делать просто по какой-то указке, то это будет непременно приводить к проблемам. У нас до сих пор сейчас есть такой дискурс в обществе, что преступники – это 90% мигранты, что мигранты отбирают наши рабочие места. То есть очень много негативного отношения к мигрантам. Это не сегодняшняя история. Я это помню там еще из 1990-х. Это есть в некоторых фильмах, которые широко известны.
Поэтому мы как общество понимаем, что, к сожалению, без мигрантов нам, наверное, не обойтись. Но тогда к этому надо как-то подходить более осознанно. Потому что есть страны, которые, например, вводят определенные квоты. То есть в ту же Австралию нельзя переехать, не набрав определенное количество баллов.
Например, если я имею образование, хорошую профессию, состою в браке – у меня, допустим, там 60 баллов. И мне скажут: «Да, хорошо. Вы приезжайте». А если у меня нет образования, нет партнера, ничего нет, капитала нет – я наберу 20 баллов. Мне скажут: «Нам такие не нужны». То есть есть там квотирование определенное. Есть возможность в какие-то моменты приглашать, в какие-то моменты сбавлять обороты.
У нас, к сожалению, вот почему очень важно тоже говорить про миграцию, как таковой именно миграционной политики не заявлено. То есть страны, у которых прямо миграционная политика выделена в отдельный пункт демографической политики. Она имеет там свое название, свою вот эту аналитику.
У нас она все-таки по сравнению с другими странами, чуть более стихийная. Мы как общество, как государство можем все-таки отбирать мигрантов. То есть мы можем, например, если нам нужно приглашать людей с определенным образованием, определенного возраста, чтобы они приезжали, захотели остаться и родить детей. Если нам нужно, например, демографическую тоже репродуктивную политику сюда подстроить. То есть миграционная и репродуктивная политика на самом деле могут идти рука об руку.
Виктор Лошак: И жители России тоже ведь мигрируют?
Екатерина Митрофанова: Да. Да.
Виктор Лошак: Это ведь тоже серьезная проблема?
Екатерина Митрофанова: У нас есть так называемый «западный дрейф». То есть у нас получается, люди переезжают с восточных территорий на более западные территории. Если люди так делают, они это делают почему-то. Миграция – это всегда сознательный какой-то процесс или выбор. И есть, конечно, стрессовая миграция. То есть люди бегут от чего-то: от каких-то там военных перипетий, от, не знаю, каких-то катаклизмов природных.
Но чаще всего люди переезжают, думая об этом уже какое-то время. Принимают решение, обсуждая его с близкими. Ведь переезд – это всегда большой стресс. Здесь у меня есть мои родители, какие-то знакомые, которые там мне делают прическу. И так далее.
Виктор Лошак: Ну, понятно. Ты встроен в инфраструктуру.
Екатерина Митрофанова: Да. А я, переезжая, получается, что в «голое поле» выхожу. Мне надо отстраивать все связи заново. Поэтому, если люди (мы видим) дома свои, переезжая в каком-то направлении, значит, в этом направлении, несмотря на все трудности переезда, им интересней и лучше. То есть они считают, что они там достигнут большего.
Виктор Лошак: Вопрос для многих. Какие границы молодости? Что значит молодость? И что значит старость? Как эти границы, оказывается, меняются?
Екатерина Митрофанова: Я могу сказать так, что по этой теме границ консенсуса нет вообще. Потому что если в советское время мы, рождаясь, понимали примерно...
Виктор Лошак: А консенсус должен быть между кем? Между демографами, медиками? Кем?
Екатерина Митрофанова: А хотя бы между кем-то. Хотя бы между вообще кем-то. Потому что его нету ни в обществе, ни внутри конкретных научных направлений. Ну, биологи еще более-менее могут вам сказать, когда человек переходит из категории ребенка в категорию подростка, в категорию взрослого, в категорию пожилого. Ну, например, именно переходом в категорию взрослого является то, что перестает расти вот эта косточка – она последняя заканчивает свой рост. Именно вот подростковая.
Виктор Лошак: Как интересно! Никогда не слышал об этом.
Екатерина Митрофанова: Да. В 27 лет она перестает расти. То есть у нас есть определенные маркеры перехода на разные этапы жизни, именно тела.
Виктор Лошак: Понятно.
Екатерина Митрофанова: В социологических науках, гораздо более таких гибких, плавных и подвижных, все еще сложнее. Потому что, с одной стороны, мы можем пойти тут от человека. Вот как он сам считает: когда он стал взрослым, ответственным, может принимать решения.
Но если мы пойдем, например, от демографических событий: вступление в брак, рождение ребенка, трудоустройство сюда тоже можно отнести, то как будто бы вот эти события демографические, они, наоборот, откладываются. И мы тогда становимся в какой-то новой позиции здесь. То есть, с одной стороны, мы начинаем, вот первое событие обретают раньше, а вот последнее событие, которое должно завершать переход во взрослую жизнь, мы можем обрести в тех возрастах, которые раньше считались вообще уже даже и переходом в старший возраст, скажем так.
Виктор Лошак: А вот как тут быть с опытом южноевропейских стран? Вот я в свое время довольно давно работал по обмену в Италии, в газете. И там была очень интересная одна из тем, которые они вели: из-за безработицы высокой у молодежи, люди до старости живут при родителях. Вот как они? Они молодые, старые.
Екатерина Митрофанова: Италия – это отдельный случай. Ну, не только Италия. То есть, если мы смотрим Европу. Европу можно поделить как раз по регионам и смотреть, как там реализуются, во-первых, меры государственной поддержки.
Во-вторых, значит, на рынке труда какие есть возможности. И как себя ведет население. И когда делают такие кластеры, то получается, что есть, например, там скандинавский тип, есть вот этот фамилистичный, южный тип брачности, рождаемости, семейной поддержки и так далее.
Значит, чем он характеризуется? Он характеризуется тем, что, во-первых, в Италии очень тесные семейные связи. То есть, если у нас мальчик, который живет с мамой до 40 лет, это уже что-то странное. То есть все скажут: «Ну, как-то уже надо самому по себе что-то делать».
Виктор Лошак: Ну да.
Екатерина Митрофанова: Там это нормально. Во Франции, которая не так далеко от Италии, есть такое обзывательство. Это имя одного из героев фильма, который долго не съезжал от родителей. И это имя стало нарицательным. Теперь всех, кто не съезжает от родителей в 18 лет, называют Тонги, обзываясь, издеваясь над ними. Потому что вот там много поколений держится эта стигма, что надо отделиться от родителей до 18-ти. Если ты задерживаешься – все. То есть ты уже ненормальный.
Поэтому в Италии, во-первых, тесные семейные связи. Во-вторых, там есть очень специфическая процедура развода. Когда развестись сложно, то в браки будут вступать неохотно. Не только сложно развестись в плане того, что им там надо жить в сепарации три года. Раньше это было пять лет. То есть раздельно друг от друга.
То есть это надо доказывать не только какими-то бумажками. Это надо еще приводить соседей, каких-то друзей и так далее. Ну, это сложная и эмоциональная, и финансовая процедура. Но очень часто при разводе в Италии женщина забирает у мужчины ну почти все. И это по законодательству. Так это работает. Поэтому мужчина, он не торопится вступать в брак. Он живет с мамой, и это у них нормально.
И когда мы смотрим на Италию и на Францию, которая очень недалеко находится, мы понимаем, что они выработали внутри себя очень разные календари наступления событий, что нормально, что ненормально.
Поэтому, когда мы смотрим на свою страну, которая вмещает в себя и Италию, и Францию по территориям, мы понимаем, что у нас тоже есть южные территории, где одни установки. Мы очень много делаем проектов на Северном Кавказе, очень много общаемся с местными жителями и видим, что действительно там больше традиционных каких-то установок.
Виктор Лошак: Там больше клановые связи.
Екатерина Митрофанова: Больше клановые связи. Но тем не менее, мы, например, там спрашивали, есть ли какой-то идеальный возраст, в который сейчас нужно успеть там родить, какие-то еще события совершить. Они говорят: «Нет. Это человек каждый сам решает».
То есть, несмотря на то, что у нас есть представление, что они какие-то там застывшие в своем представлении о жизни, они трансформируются, они тоже меняются. И это очень интересно. Потому что модернизационный процесс все-таки он идет неостановимо, его очень сложно повернуть вспять. Вот так это работает, что люди все-таки они какой-то своей жизнью живут.
Виктор Лошак: Екатерина Сергеевна, вы рассказали так много интересного и забросили столько зерен для дискуссий, что я думаю, нам всем, мне и зрителям это нужно пережить. А я хочу вас спросить (всех спрашиваю) о правилах жизни? Повлияла ли демография на ваши правила жизни?
Екатерина Митрофанова: Да. Как демограф, наверное, я могу только такое правило жизни сказать, что очень хорошо знать о том, как живут другие, что есть в мире. Но это как раз разнообразие позволяет нам понять, что то, как у нас, – оно самое правильное, самое лучшее для нас. И не переживать по поводу того, что мы чего-то там не успели, куда-то там опоздали. Вот как у нас есть, так и правильно. Вот это правило.
Виктор Лошак: Спасибо вам большое!
Екатерина Митрофанова: Спасибо вам!