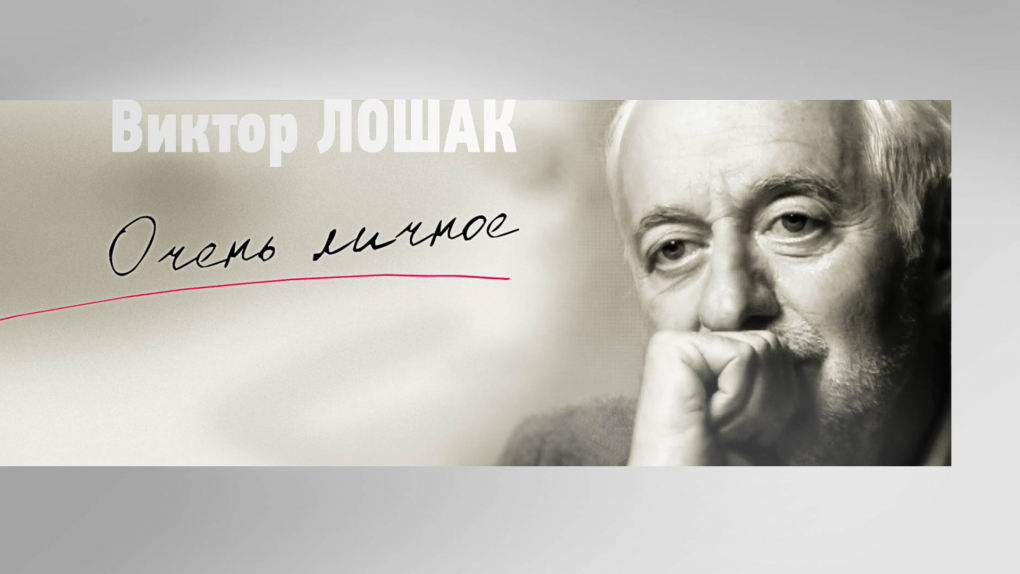Михаил Левитин: Для меня актеры проявляют реальность... Они родились для того, чтобы проявить личность не только автора, а просто реальность...
https://otr-online.ru/programmy/ochen-lichnoe-s-viktorom-loshakom/mihail-levitin-82069.html 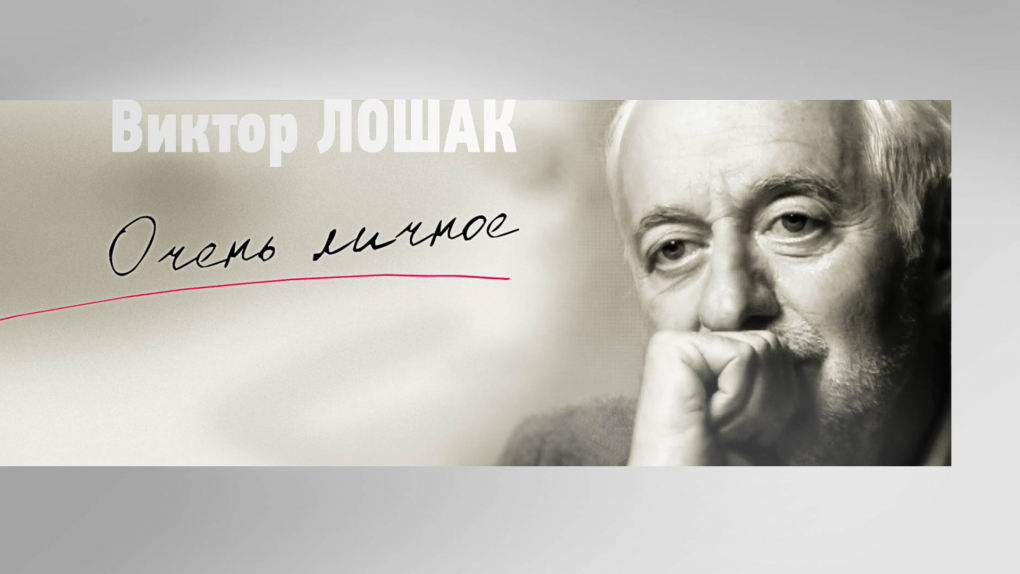
Виктор Лошак: Это «Очень личное» – программа о принципах и правилах жизни. Что значит иметь ключик к актерам? Как в одном человеке уживается режиссер и писатель – наш разговор с главным режиссером театра «Эрмитаж», народным артистом России Михаилом Левитиным.
Миша, я подозреваю, что многие наши общие знакомые, которые, может быть, смотрят эту передачу, ожидают, что мы начнем говорить об Одессе. Но об Одессе говорить тяжело.
Михаил Левитин: Очень, очень тяжело.
Виктор Лошак: Но я хотел бы поговорить или начать наш разговор с одесситов. Вы были единственным настоящим режиссером, как я считаю, для Миши Жванецкого, Карцева и Ильченко. Вы были знакомы с Валентином Петровичем Катаевым, который сохранил акцент одесский до конца жизни. И наконец, вы оценили Колю Губенко – Николая Николаевича Губенко – как лучшего актера, с которым вы работали в жизни.
Михаил Левитин: Да-да.
Виктор Лошак: Он ведь тоже одессит?
Михаил Левитин: Да!
Виктор Лошак: Вот о них я хотел бы, чтоб мы начали разговор.
Михаил Левитин: Начну с того, что я плохой одессит. Вот я просто с этого начну. Я плохой одессит, потому что никто о моем существовании, а Одесса – театральный город, театральные люди, такая тусовка театральная: Парнас и все на свете, – я был далек. Я просто не присутствовал. Я шел к своей цели. Я занимался своим театром наедине с собой. Закончил театральную студию между делом. И так далее.
Но, тем не менее, вот те одесситы, которых вы назвали, так прекрасны, что не встретиться мы с ними просто не могли. С Мишей была просто удивительная встреча! Миша, как все одесситы, хваток на успех. Он вдруг увидел, что мальчик какой-то поставил «Мокинпотта» на Таганке. Он тут же сообщил об этом Райкину. Сам не смотрел «Мокинпотта».
Виктор Лошак: Вы поставили его в 20 лет?
Михаил Левитин: Я поставил да, в 20 лет. Пришел Райкин, которому ни до моего «Мокинпотта», ни до чего! Ну, Миша рекомендовал. И Райкин, когда не работал, он всегда был с таким отвлеченным выражением лица экономии сил. Такая огромная экономия сил. Провели мы дивную беседу. Спектакль, как он сказал, ему понравился. Что не факт. Миша был удовлетворен очень. И он меня втянул в эту историю с Ромой и Витей.
Виктор Лошак: Они все втроем в этот момент работали в театре у Райкина?
Михаил Левитин: Кажется, да. Мы там крутились вместе. И в Одессе он меня попросил. Летом, когда я приезжал к родителям моим любимым, он мне сказал: «Не мог бы ты поработать с нами?» Я говорю: «Я эстрады не знаю. Я, может быть, по духу эстрадный человек, веселый. Но я не знаю эстрады. Я не умею. Вас я видел».
Они такие блестящие. Ни на кого непохожая пара. Ни на кого! И я пришел к ним, к этим людям. Очень я их полюбил легко, без стараний. И самое главное, что они мне доверились. Они – недоверчивая компания. Это банда недоверчивых людей была совершенно. Пожалуй, даже Жванецкий – был самый из них лояльный по отношению к другим людям. Ну, он умница! А страстный и мой близкий, самый близкий мне – Рома, естественно. И очень нужный любому театру, любому режиссеру – Виктор.
Я столкнулся с таким театром внутри театрального города, с такими тремя мыслителями, мыслящими театральными людьми. Может быть, даже не театральными, вообще мыслящими. И они меня впустили в какую-то богемность, такую свою, тоже необычную. Она не похожа на общую богемность.
Они создавали свой мир. Они кому-то как бы подражали. Они куда-то как бы тянулись. Это очень странная история какая-то. Но они мне доверились, и я стал называться в их кругу, в маленьком – «наш режиссер». Это было потрясающе.
Виктор Лошак: То есть они вас приватизировали?
Михаил Левитин: Приватизировали. Абсолютно. У меня уже был спектакль. И там, и «Странствия Билли Пилигрима». Уже все было. Но я был их режиссер. Ну вот так. Я был их режиссер. Это что касается этой пары.
С Колей Губенко тоже как-то связано с «Мокинпоттом». Потому что он репетировал у меня Мокинпотта. Я не думал тогда, что он одессит. Я позже узнал. Я не видел артиста более близкого.
Виктор Лошак: Он же закончил знаменитый интернат в Одессе.
Михаил Левитин: Да. Да-да-да. И родители были связаны с расстрелами в катакомбах. Я не помню, какой-то ужас был. Ужас в его жизни. И его правоверность такая у Коли, она рождена, так сказать, от темы отмщения за родителей всем фашистам на свете.
Виктор Лошак: Ну да, судьбой...
Михаил Левитин: Поразительный! Поразительный актер! Это был крутой одессит какой-то мне новой породы. Мы здоровались и прощались. Разговоров на репетиции у нас не было ни одного слова. Репетиции продолжались так. Шли, проходили так. Я говорил: «Сейчас я покажу вам картину Мокинпотта и Ганса Ворста».
Сидит Высоцкий и он. Сидят вдвоем. И они смотрят, смотрят. А я все в ритмах, в мизансценах, с текстом все показываю, показываю, показываю, показываю, показываю. Наизусть. Там стихи в «Мокинпотте». Потом они переглядываются. Он говорит: «Ну что, Володя? Пойдем». И идут повторять. Повторять, как я называю: облагораживая собой, одухотворяя собой, идут. Больше я никогда с Колей не говорил.
Виктор Лошак: То есть вы с ним один раз работали, как с актером?
Михаил Левитин: Как с актером один раз. Никогда!
Виктор Лошак: И такое сильное впечатление?
Михаил Левитин: Огромное! Оно не сильное, оно огромное. Если были бы артисты, как он. Я ему, например, говорил: «Вы можете сейчас в мизансцене наступать и, одновременно очень быстро идя, на пятки тому, кто впереди? На пятки и говорить. На пятки и ему говорить. Это трудно, наверное? Вам упростить задание надо?»
«Не надо упрощать». И наступает на пятки, и говорит, говорит, говорит, говорит. С ходу, сразу, мгновенно! Это прирожденный импровизатор. Это наполненный каким-то содержанием человек. Это клоун. Обязательно.
Второй вот, Володя, Владимир Семенович наш обожаемый – он клоуном не был. И в гибкости актерской можно было сказать, что он Коле сдавал. И надо сказать, что Коля, обожая Володю – это были очень странные отношения. Помните песню «Течет реченька по песочечку, а молодой жульман, а молодой жульман начальничка просит»? Она есть в исполнении Володи и в исполнении Коли. Коля первый подарил ее Володе. Вот вы дома там когда-нибудь сравните два исполнения. О-о! Манера, освоенная Володей. Освоенная.
Виктор Лошак: Для вас клоун – это такая очень позитивная оценка, да?
Михаил Левитин: Это герой нашего времени и любого времени. Клоун – это абсолютная квинтэссенция актерского мыслящего существа.
Мишка Жванецкий не любил юмора. С ним впервые мы поставили спектакль «Концерт для...» Он мечтал тайно о драматическом театре. И в Театре комедии мне предложили что-либо сделать, в Ленинградском. Там был Вадя Голиков. Я сказал: «А что, если Мишу?» И мы пришли с ним, с Мишей. Я предложил. Он был в восторге.
Пришли в театр с этой пьесой, композицией. Непонятно что. «Концерт для...» Не буду вам говорить, как артисты называли этот «Концерт» восторженно, меняя одну букву в этом названии. И это был спектакль о любви. О любви, о любви, о любви. Моя тема. Вечная моя была моя тема. Да и Мишина тоже. Все вместе.
Но как работал? Вот интересно. Мы знаем, что он работал трудно и так далее, и так далее. А тут он согласился. Попав в мои расторопные и молодые лапы, он согласился выполнять мои задания. Я ему говорил: «Тут нужна история...» Мы придумали всю историю. «Тут нужна история, как молодой администратор разговаривает с этим. Тебе сколько дней нужно?»
Вечером он приносил мне текст. Вечером! Так хотел быть поставленным. Такая жажда большой сцены, серьезного... Еще после Райкина, который его изгнал. Мы знаем Аркадия Исааковича.
Виктор Лошак: Ну да. А у меня вообще ощущение, что он всю жизнь что-то доказывал Райкину, когда Райкина уже не было.
Михаил Левитин: Вы совершенно правы.
Виктор Лошак: Вы где-то сказали смешную фразу, что «моя мама была, преподавала в цирке». Что значит: преподавала в цирке?
Михаил Левитин: Да! Да. Она была в Институте связи.
Виктор Лошак: Да-да.
Михаил Левитин: Идеологические дисциплины: научный коммунизм. И так далее, и так далее.
Виктор Лошак: Читала она?
Михаил Левитин: Вы знаете, я не скажу вам, какой человек, когда я в передаче сказал эту фразу, очень смешную и важную, – человек, он свалился. Просто под стол свалился от хохота. И маме поручили (общественная нагрузка) читать клоунам и артистам цирка (ну «клоунам» я называл это) научный коммунизм. И у мамы были свои два часа или сколько-то времени, когда она приходила в цирк и рассказывала им про научный коммунизм.
Усталые люди. Рабочие, за три рубля выходящие бог знает куда там. Нищенские зарплаты. Но они относились к ней хорошо. И она получила право (мама) на ложу, когда хотела там. В этой ложе я сидел вечно. Отец не любил цирк, но сидел с нами. И мама тоже. И Зильберман (дирижер) поворачивался, находил маму глазами. Сначала он кланялся всему цирку. Потом находил маму, кланялся лично маме. И начинал. Это чудные моменты.
И вдруг через много-много лет на телевидении решили что-то снимать про Олешу. Меня повезли в Одессу, чтобы я прочитал Олешу на этой территории цирка. Но это была Одесса 1990-х и цирк 1990-х. Одна лампочка горит. В представлении есть аттракцион «Дед Мазай и зайцы». Какой-то человек ловит шапкой зайцев. Пока они разбегаются, он их ловит. Темно отчаянно! И вместо арены какой-то бугор, тугой бугор – там невозможно стоять, разговаривать. Это...
Единственное, что сдобрило этот мой поход: при входе в цирк я увидел человека, продающего, сидящего в подъезде цирковом, первом, Енгибаровские программки. У него сохранились Енгибаровские программки. Я их купил. Они у меня дома. Это мои программки.
Виктор Лошак: То есть такой букинист цирковой?
Михаил Левитин: Это букинист, да.
Виктор Лошак: Я обратил внимание, когда смотрел ваше интервью, что вы очень сосредоточены на прошлом. И более того, это некая ваша такая внутренняя человеческая идеология. Вы говорите, что «о будущем думать неинтересно. Нужно думать о прошлом».
Михаил Левитин: Очень любил прошлое. Равнодушно относился к будущему. И с удовольствием живу настоящим. Вот это было мое кредо. Сейчас оно чуть-чуть изменилось. Но, в общем-то, эпитафия эта за долгую жизнь меня вполне устраивает. Я очень люблю прошлое: там все корни. Я не даю их обрубить. Я не хочу, чтобы традиции были обрублены и прекращены. Не хочу! Это несправедливо, неправильно. Это было прошлое, полное великих людей.
Виктор Лошак: Миша, но это писательская или это режиссерская? Это скорее писательская? Вот в вас. Вот этот интерес к прошлому. Вы говорите: я не вычеркиваю ушедших из записной книжки.
Михаил Левитин: Это невесть откуда взявшийся интерес к людям 1920 – 1930 годов. Невесть откуда. Вы назвали Катаева в перечне моих друзей.
Виктор Лошак: Да. Да.
Михаил Левитин: Это не главный мой друг. Скорей всего, он был мне чужой. А вот Шкловский.
Виктор Лошак: Ну, я бы сказал, что у вас разрыв в возрасте еще таков, что сложно.
Михаил Левитин: Все равно. Была история своя, очень смешная. А вот Шкловский, Каверин – это мои люди. У меня письма от них, записки от них. У меня все там есть. Не только они. Там Рита Райт – это просто... «Моему корешку – любовь», написано на фотографии.
Виктор Лошак: Я внутренне встал по стойке смирно. Такие имена: Каверин, Катаев, Шкловский!
Михаил Левитин: Такие имена. Вы придете ко мне в кабинет, я надеюсь, и вы увидите целое письмо на фотографии Курта, который приехал. Как он пишет мне лично. Я этим могу гордиться. И я всегда говорил так: «Пусть критики ругают». В свое время, когда было модно считать меня каким-то авангардистом, кем я не являюсь ни в коей мере. Я говорю: меня хвалили Шкловский, Каверин. Их статья. Их статьи. Шкловский написал: «Это режиссеру, у которого в руках «джокер»».
Что мне надо еще? Скажите, пожалуйста? Вы меня будете ругать? Ругайте. Мне безразлично. Это не хвастовство. А это родные люди отозвались. Я туда крикнул. А они оказались, может быть, впереди меня, может быть, рядом, сбоку. Но они меня поддержали. Ужасно поддержали.
Виктор Лошак: А что же вы с Катаевым?
Михаил Левитин: С Катаевым история нелепая. Она нелепая. Мне нужно было поставить спектакль о Первом съезде советских писателей. Это так называемый политический спектакль. Но на этом Первом съезде участвовали Пастернак, Бабель, Олеша и так далее.
Виктор Лошак: Да-да.
Михаил Левитин: Я взял и эти имена вырвал их новеллой, именно этих людей. И устроил такую: в окружении Первого съезда мои любимые люди с их новеллами.
Виктор Лошак: А есть их воспоминания о Первом съезде?
Михаил Левитин: У каждого есть несколько слов. Обязательно.
Виктор Лошак: У каждого есть.
Михаил Левитин: У Ильфа и Петрова есть. Ну, Ильфа и Петрова уже не было. Хотя я очень дружил с Сашей Ильф. Очень дружил.
Виктор Лошак: И я дружил очень с Сашей Ильф.
Михаил Левитин: И вы дружили с Сашей! Господи!
Виктор Лошак: Конечно.
Михаил Левитин: Ну, мы с вами и без того как-то были знакомы. И без Саши.
И приходит мой завлит. Я просил его: договорись... Остался один Катаев в живых. Договорись с Катаевым, чтоб мы пришли к нему и записали его речь про Первый съезд Союза писателей. Договорился. Нахватал кучу книг Катаева – он, этот мой завлит, чтоб тот подписал. И пошли.
Шли. Погода – такая неяркая погода. Ходит высокий человек. Я подхожу к нему. Смотрю на него. Он недовольный-недовольный! Ему пришли морочить голову. Идет через лужайку, меня ведет и говорит со мной: «Что вы сейчас ставите?» Я говорю: «Олешу. Черновики «Нищий, или смерть Занда». «Примазаться хотите?» Я ему говорю: «Нет. Я занят Олешей много лет. И мне на это дал право душеприказчик его Виктор Шкловский». А они враги.
Заходим в дом. Идем. Жена его выскочила и говорит: «Вы осторожнее! Он после больницы. Осторожнее, Бога ради! Смотрите, осторожно с ним говорите. Осторожнее, осторожнее». Проходим наверх. Он еще капризничает, капризничает. Вот это слово «каприз» я бы про него сказал.
И вдруг его жена бежит снизу и говорит: «Это очень хороший режиссер! Дети мне внизу наши сказали». Там были дети. «Они видели «Хармса»». Успокоился. Но продолжает чуть-чуть подкапризничать. И вдруг я стукнул кулаком и говорю: «Сядьте и пишите то, что я вам говорю». Клянусь вам! Когда вошел завлит, он сел, не на стул, а на полусогнутых – он был крепкий, сильный мужик – и стал писать сначала какие-то вещи, потом записывать на микрофон.
И когда я вошел в театр, завлит шел за мной с криком: «Я только что слышал, как Левитин кричал на Катаева!» Это единственный человек, на которого я поднял голос. Мне стыдно! Потому что он один из моих самых любимейших писателей.
Но я говорил со своей Одессой. Вы знаете, со своей Одессой. Он должен был говорить со мной так – капризно. Я должен был поднять голос на мэтра, на огромного человека.
Виктор Лошак: Миша, вот вы сказали об Олеше. И я хотел вспомнить одну удивительную совершенно вещь. Вы, готовя пьесу о нем, вычислили, что где-то должен быть обязательно в черновиках монолог директора театра.
Михаил Левитин: На промокашке.
Виктор Лошак: И нашли?
Михаил Левитин: Все нашел. Очень долго искал.
Виктор Лошак: Это театральная интуиция сработала?
Михаил Левитин: Интуиция на Олешу. На Олешу.
Виктор Лошак: То есть начитанность такая была?
Михаил Левитин: Чувство братства у меня с ними. У меня не было чувства: ученик с учителями. Всегда было чувство братства. Ну, родился позже, лет на двадцать, на тридцать. Ну, бывает такое горе. Как говорила Рита Райт: «Ты должен был родиться вместе с нами! Вместе с нами!» Я говорил: «Там же и остаться, где вы все остались фактически». Очень интересно.
Поиски Олеши, этого спектакля были невероятные. Я прочел одну картину напечатанную. Откуда этот Олеша выскочил у меня? «Нищий, или смерть Занда» это. Саша Ильф в журнале «Театр» напечатала отрывок из «Нищего, или смерть Занда». Я прочитал. И сказал в интервью в первом, в «Юности»: «Это мой диалог! Это мой «Гамлет»».
По этому отрывку я его поставил в ГИТИСе на втором курсе или на третьем. Это мой «Гамлет». Я стал искать своего Гамлета. Искать, искать своего Гамлета. Дошел, естественно, до Ольги Густавовны. Еще не был знаком с Виктором Борисовичем.
Виктор Лошак: Ольга Густавовна Суок – это жена Юрия Олеши.
Михаил Левитин: Жена Юрия Карловича.
Массу людей прошел. Массу людей. Ни кусочка! Ничего! И наконец, у Ольги Густавовны... Она позвонила Виктору Борисовичу. И он говорит ей на ее вопрос: «Пришел мальчик. Просит черновики «Занда». Дурак или авантюрист?» – спрашивает его Ольга Густавовна. При мне его. И он отвечает, а я слышу: «Безусловно, не дурак. Но, возможно, авантюрист». А мне главное было: черновики, черновики, черновики, черновики! Я уже знал, каким будет спектакль этот.
Это удивительно странная история! Как многие-многие пошли за мной в этом «Занде». С этим Олешей связана целая-целая судьба, целая жизнь.
Виктор Лошак: Я хотел бы вам напомнить несколько ваших фраз, которые, с одной стороны, интересны, с другой стороны, нуждаются в расшифровке. «Я иногда пишу, репетируя. Я актерами пишу. Просто ставлю свою будущую главу из книги».
Михаил Левитин: Откуда вы так точно угадываете то, что надо спросить меня? Вы хотите спросить, что это означает?
Виктор Лошак: Я не очень понимаю: «пишу актерами».
Михаил Левитин: Я пишу актерами. Для меня они проявляют реальность. Они родились, чтоб проявить реальность. Личность не только автора. Просто реальность. А я в этой реальности существую с новой книгой. И передо мной семеро, предположим, их, или четырнадцать их. Они очень разные. Они мной выпестованы, они мной любимы. Я им интересен. И они мне интересны как проявляющие реальность.
И вот у меня какое-то задание, свое, писательское. Я не успеваю ... но с ними репетировать. Я подумал: как это совместить? И я начинаю давать им задания, которым следуют мои персонажи в книге. Мне интересно, как ведет себя человек, который стоит в такой мизансцене по отношению к окну. Или там, как он берет сигарету. Мне интересно.
Я даю артисту задание: «Возьми, пожалуйста, сделай это». Он не знает, почему я ему дал это задание. Он не знает. Но ради меня и ради интереса к спектаклю он это делает. И я смекаю так, машинально. Не то чтоб я специально это делал. Я смекаю, что он мне открывает окно куда-то. Открыто окно.
Артисты вообще проявляют. Проявляют действительность. Если они не проявляют – все, я не работаю. Меня просто не интересуют они. Они – окно в мир, окно в Париж. Как Дрейден, мой любимый.
Виктор Лошак: А когда вы говорите: «я обладаю ключиком к актерам». Что это за ключик?
Михаил Левитин: Очень чувственное отношение к действительности. Нет барьера между залом и сценой. У меня нет внутреннего барьера.
Зритель нуждается в покровительстве театра. Зритель – несчастное существо, пришедшее неизвестно куда, сидящее неизвестно с кем, смотрящее неизвестно что. А эти вооружены, сильны. Мы договорились о чем-то. Они красивы. Я им говорю: «Да что же дрожите-то чего? Чего вы боитесь? Помогите людям. Иначе они сами просто уйдут отсюда. Помогите. Оставьте их при себе».
Мы так приросли все друг к другу. И вы, когда в театр придете или на репетицию придете, вам репетиция больше понравится, чем спектакль. Потому что они следят за мной не как за дрессировщиком. Они следят за мной как за человеком, который что-то видит немножко раньше, чем они увидят. Потом он им отдаст или заберет. Или не отдаст.
Я стою к ним спиной. Это цирковое, вероятно, у меня. Стою и знаю, кто шепчет, кто отвлекается, кто думает о другом. Я поворачиваюсь и говорю: «Ну чего ты об этом думаешь? Не надо об этом думать, я тебя очень прошу». И я не ошибаюсь.
Надо связать себя с людьми. Театр построен на удивительной любви человека к человеку, на удивительной любви постановщика к актерам, на удивительной связи зрителя со сценой. На удивительной! Иногда зритель боится. Ему кажется, это некультурно, это хамство – вмешиваться в его личную жизнь.
Знаете, я сейчас выходил из зала, а впереди меня какая-то дама вышла из зала, на второй сцене «Мокинпотт». Я поставил еще раз «Мокинпотта».
Виктор Лошак: Да, я знаю.
Михаил Левитин: Да. Вышла из зала. Поворачивается ко мне. Мы идем вдвоем: в фойе никого нет. И говорит мне: «Какая пошлость, да?» Я отвечаю ей: «Ужасная пошлость, ужасная! Зачем вы пришли сюда?» «Мне посоветовали». «Вы должны думать, с кем советоваться. Не ходите больше никогда сюда». Говорят, она после меня повернулась, пошла в зал и досмотрела спектакль. Реакции не знаю. Дама в лиловом платье – все, что я помню о ней.
Мне не страшно. Я не хочу нравиться, не хочу не нравиться. У меня нет таких задач. Я проникаю в свое и приглашаю идти с собой.
Виктор Лошак: То, что вы говорите об актерах, – это то, как вы понимаете авторский театр?
Михаил Левитин: Да.
Виктор Лошак: Ваш театр, безусловно, авторский.
Михаил Левитин: Он, безусловно, безобразно авторский. Но что касается актеров, то я понял: нет другой профессии, нет другого мира, нет другого материала. Я сам, прежде всего по природе актерский человек. Только рассчитан на определенное мгновение. Как говорят, на мгновение показа.
Виктор Лошак: Вы все им показываете?
Михаил Левитин: Я показывал всегда. Сейчас я добился того, что труппа такова, что я могу лечь в зале. Они будут делать то, что я прошу. А я показывал беспрерывно. Если я показывал Губенко и Высоцкому, и Добржанской, то я могу показать им тоже. Ничего страшного не произойдет. Показывал. Ритмы показывал. Ритмы показывал. Ритмы!
Виктор Лошак: За что вас убивали? Вы говорите: меня убивали за театр. Что это за история? Это уже история перехода: 1990-е, конец 1980-х? Что это?
Михаил Левитин: Да. Да. Сначала закрывали. Трудно вспомнить, как я переживал закрытие. Спектакль идет какое-то количество раз. Потом как идеологически...
Виктор Лошак: А почему закрывали?
Михаил Левитин: Идеологическая ошибка сезона. Это был первый Жванецкий в Театре комедии. Попал в доклад Романова.
Виктор Лошак: Закрывала советская власть?
Михаил Левитин: Советская власть. Романов в докладе огромном написал: «идеологическая ошибка». Ну, ему написали. А идеологическая ошибка – спектакль «Концерт для...» в Театре комедии.
Я приезжаю из Москвы смотреть очередной спектакль – его нет, он уже закрыт. И моя группа любящих друг друга людей -ёё Дрейден, Антонова, Лемке – не существует. Трагедия невероятная! Мишка очень страдал. И такие случаи были.
Виктор Лошак: За что же убивали-то вас?
Михаил Левитин: За эстетику. Все-таки мне кажется, что мы самостоятельные в эстетическом смысле были: свой язык, абсолютно свой язык, свой репертуар, абсолютно свой репертуар. Своя композиция, совершенно своя композиция. Она была новой, это, безусловно: коллаж вместо пьесы. Коллаж. И все это вместе создавало у них впечатление странного.
Виктор Лошак: Ну да. Тут не идеология. А просто не так, как привыкли.
Михаил Левитин: Не так. Вспоминается... Вам, может, попадалась в руки книга о ГУЛАГе, где разные воспоминания. Воспоминания дяди Сандро у Искандера это говорит. Эту новеллу, я ее читал из книги о ГУЛАГе: когда Сталину показывали ансамбль песни и пляски, и один танцор подкатывал к ногам вождя, он на расстоянии миллиметра. Когда закончили они танцевать, вождь встал и ушел.
Остался Ворошилов. Расстроенный коллектив. Они спрашивают Климента Ефремовича: «А почему ушел вождь?» Он говорит: «Знаете, что бывают шутники, а бывают чудаки. Шутник – человек веселый, компанейский. А чудак всегда с какой-то, понимаете, заковыркой. Ну что, он должен был обязательно подлететь к сапогам вождя?»
Это потом использовал, в «Пирах Валтасара» использовал Фазиль. И мне казалось, театр был в этом плане способный подлететь к ногам. Потом привыкли. Потом я стал получать все, что можно получить. Это касаясь звания, наград. Ну, все, что можно получить, я стал получать. И мне разрешили. Сначала разрешили, как театру с таким странным местом: не Малый, не МХАТ.
«Делайте, что хотите», – мне говорили в райкоме. Меня вызывали в райком, хотя я не член партии. Меня вызывали в райком и говорили: «Чтоб только было интересно. И не опасно». Я говорю: «Опасно – я не понимаю, про что вы говорите. А интересно я вам гарантирую. Просто гарантирую».
Вот такой был театр. И борьба была со мной, лично со мной. Может быть, меня хотели изменить. Может быть, меня хотели стереть.
Виктор Лошак: Миша, вот вы сейчас работаете на Арбате. Такое мифологизированное части Москвы. Новый Арбат не любите?
Михаил Левитин: Ненавижу.
Виктор Лошак: Почему?
Михаил Левитин: Ненавижу. Случайные люди. Хаос случайных людей.
Виктор Лошак: Вы имеете в виду, в зале?
Михаил Левитин: Нет. В зал тоже попадают. Но Арбат не ходит особенно в театр. Не ходит. Когда выхожу: мне не нравится воздух, мне не нравятся какие-то комплименты. «Живая легенда!» – говорит мне пьяный человек на улице. Все это чудовищная ересь, какая-то ерунда.
И потом, я очень любил свое здание в саду. Восемь лет сидел на моем месте – Новый Арбат, 11 – сидел под предлогом ремонта Калягин. Потом выстрелил этот театр. Восемь лет сидел Бертман с «Геликоном-оперой». Теперь девятый год сижу я. Это много. Вроде бы должны сдвинуть. Я даже написал одно письмо.
Виктор Лошак: Должны сдвинуть, в смысле – ремонт театра «Эрмитаж»?
Михаил Левитин: Давно Собянин уже заявил, что ремонтируйте. Большая борьба была. Но сейчас это неважно. Важно то, что театр есть, и я существую в нем без тревоги.
Виктор Лошак: А вот как вы относитесь к сегодняшнему состоянию театра? Я понимаю, что очень критично. Даже нашел у вас фразу: «Театр умер. Время дилетантов».
Михаил Левитин: Да. Да.
Виктор Лошак: Почему?
Михаил Левитин: Скажу. Это не вина театров. «Каждая кухарка может и должна управлять государством». Вроде мы не пользуемся этим девизом. Но мы им пользуемся в культуре. Мы упростили вопросы с культурой. Плохие книги печатаются легко. Спектакль может поставить любой...
Виктор Лошак: Но печатается и много хороших.
Михаил Левитин: Это другой разговор. Какой борьбы это стоит? Какого труда это стоит? И признаны ли они хорошими, а эти плохими? Уравнено. Люди должны почувствовать себя писателями, режиссерами, актерами. Но они не писатели, не режиссеры и не актеры. Большинство.
Конечно, вы правы. Конечно, есть. Смешно говорить. Но все-таки корни хорошего театра в прошлом. Мы не даем им, и я в частности, не даю успокоиться театру, бурлящему в 1920, в 1930 годах. Я не даю успокоиться этим людям. Это традиции, которые обрубили искусственно.
Юрий Петрович немножко занимался воскрешением этих традиций. Он сам оттуда. Он все-таки из 1920–1930 годов. А мне достались только отголоски, о которых я вам говорил. Чудесные люди! Избалован, вероятно, я этими культурными знаниями. Избалован я.
Виктор Лошак: А вот вы серьезный писатель. И я уже не говорю о том, насколько серьезный режиссер. Вот у вас эти два начала борются или очень гармонично сочетаются? Вот как вы в себе это чувствуете? Вот то, как вы пишете, актерами?
Михаил Левитин: Нет, не только. Главное другое. Репетируешь и думаешь: жить хочу. Жить хочу. Жить хочу, значит, и писать хочу. Потом опять: карнавала нету. Карнавала нету. Нужны актеры, нужен театр. Иду карнавал. Жить хочу. Жить хочу. Вот мои перебросы. Очень они естественные. Единственное, что я вам скажу, что после театра я чувствую себя легко, а после книги, написанной ночью, все очень тяжело.
Виктор Лошак: Встав из-за стола?
Михаил Левитин: Встав из-за стола. Очень тяжело. Там я живу ими. А тут я вспомнил себя. Это такое тяжелое, необходимое человеку погружение. Он должен уйти в себя. Ну хоть немножко! А мне дает Бог, это дает Бог, несколько романов. 28 книг – это очень много. И это происходит так, не специально.
Виктор Лошак: Это хватило бы на отдельную писательскую судьбу. Без театра, без режиссуры.
Михаил Левитин: Абсолютно. Абсолютно. Мне Юлик Даниэль сказал, когда пришел на премьеру... еще занавес не открылся. А он обожал мою прозу. Он говорит: «Миша! Что вы теряете время? Идите домой писать». Это было поразительно. Я молодой и счастливый человек: у меня играют, приходят, смотрят. А он мне говорит: «Идите писать домой. Домой!»
Виктор Лошак: Вы пишете. Это режим писания или это толчок какой-то творческий? То есть режим – это вы садитесь каждое утро или каждый вечер и пишете. Или вас зовет это?
Михаил Левитин: Я отмечаю в себе будущую книгу. Я ее в себе отмечаю. Записываю только фразы. Их так много, что лучше бы я напечатал все свои эти фразы. Они мне кажутся удачными. Удачней книг. Фразы далекие. Если так начнете читать, не поймете, кто что говорит. Но говорят иногда сильно.
А потом возникает книга, и это как бы размазывается. Все-таки проза у меня тоже 1920–1930 годов. Но я не люблю, когда описание, описание. Должны быть выстрелы такие. И потом вдруг возникает книга, и единственное, что было – я всегда довожу до точки. Вот такая история с книгами.
Виктор Лошак: Миш, я помню «Линию жизни» с вами. Очень хорошо запомнил, как неожиданно в конце... Ну, это режиссерские штучки, конечно. В конце...
Михаил Левитин: Ребенка?
Виктор Лошак: В конце ребенок выбежал.
Михаил Левитин: Это я придумал.
Виктор Лошак: Да.
Михаил Левитин: Вы правы абсолютно.
Виктор Лошак: Выбежала девочка, ну двух лет, может быть.
Михаил Левитин: Ее принесли.
Виктор Лошак: Ее принесли?
Михаил Левитин: Ее принесли. Ее принесли. Двух лет, да.
Виктор Лошак: Это ваша дочка?
Михаил Левитин: Это моя последняя дочь. Моя малышка, 21 год. Она...
Виктор Лошак: Уже 21 год?
Михаил Левитин: Ей 21 год. И она блестящий музыкант, который бросил неожиданно это сумасшедшее консерваторское училище. Ушла. Моей мечтой, как каждого одесского человека, была...
Виктор Лошак: Ну конечно!
Михаил Левитин: У фортепиано моя прекрасная девочка. Ушла. Что сейчас делать? Себя ищет. Уже два года себя ищет. Я не мешаю. Это последняя моя дочь, чудесная. Их же у меня достаточно много, внуков и дочерей. И те тоже прекрасные! И сын мой, который написал сейчас пьесу о Блаватской. Я же поставил сейчас пьесу.
Виктор Лошак: Вы поставили пьесу сына?
Михаил Левитин: Пьесу сына.
Виктор Лошак: Потрясающе!
Михаил Левитин: Которую ставить не хотел. Левитин-младший. Михаил Левитин-младший. И «Веселая женщина» – комедия о Блаватской. Народ столкнется с этой спириткой, теософкой. Я представляю, сколько будет обо мне говорено всего и плохого. Изредка хорошего. Хотя ее любил Толстой. Больше, чем я любил и люблю ее. Любил Воннегут, очень много о ней писал. ... сказал: «Она делает то же самое в философии, что я делаю в науке.
Это фантастика какая-то. Я ничего этого не понимаю! Я иду за судьбой этой женщины, за ее смешными, смешнейшими перипетиями. Такой фарс, огромный фарс, который я сделал благодаря Мишке. Я хохотал, когда он принес мне это читать. Уморительнейшая история. Уморительнейшая!
Виктор Лошак: Из каждой судьбы можно сделать фарс?
Михаил Левитин: Увидеть надо.
Виктор Лошак: Конечно!
Михаил Левитин: Увидеть. Специально ломать – ни в коей мере. А увидеть это надо уметь. Ты видишь смешное. Ты видишь, что человек – это грустный клоун. Каждый человек – грустный клоун. Мне скажут: «Нет! Это герой производства». На здоровье! Грустный клоун – герой производства. Почему нет? На здоровье.
Когда-то был такой критик Асаркан. Он посмотрел первый наш спектакль в театре по Жванецкому, тоже бороздки мне оставил. И там я играю, Рома, Витя и еще люди. Спектакль на ногах, на руках – на всем на свете там.
И он сказал. Писал статью и написал в статье: «Я долго думал, про что этот спектакль? Он про труд актеров: невероятный их труд, невероятную эквилибристику их, невероятное их поведение, страсти. Они отдают себя предельно. Вот про это спектакль». А вы будете узнавать, про что он там? Герой труда – не Герой труда? Нет. Театр все-таки должен, воспевая жизнь, не забывать о себе.
Виктор Лошак: Миша, вообще все наше интервью – это был разговор о правилах жизни. Но правила таковы, что я хотел бы вас спросить в конце о ваших правилах жизни. Сформулированы ли они?
Михаил Левитин: Да. Вы меня спросили, я сформулировал. Быть абсолютно всегда верным себе. Чем бы тебе это ни угрожало, что бы ни было – быть верным себе. Никем не притворяться: ни правдолюбцем, ни лгуном. Никем! Быть верным себе. Все!
Например, ты считаешь, что надо идти на компромисс. Иди! Тебе скажут: «Как ты можешь идти на компромисс?» «Иду!», называется. Только верным себе. И быть свободным человеком. И очень много и сильно любить, даже в нашем возрасте. В моем. Любить! Любить! Любить! Любить! И радоваться тому, что вокруг тебя очень красивые люди и красивые женщины. Это необходимо. Я не сумею жить.
Виктор Лошак: Какие замечательные правила! Спасибо! Спасибо вам большое!
Михаил Левитин: Да-да. Пожалуйста!