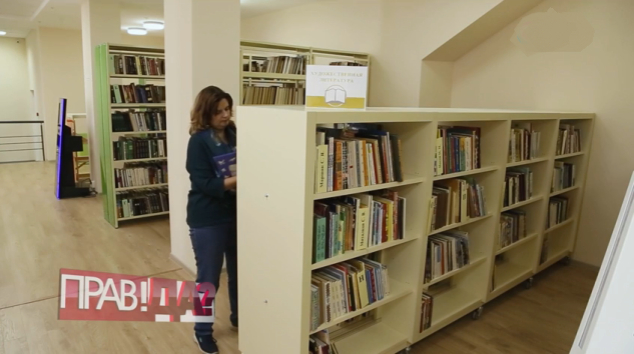Какое будущее ждет библиотеки в России
https://otr-online.ru/programmy/prav-da/kakoe-budushchee-zhdet-biblioteki-v-rossii-37138.html 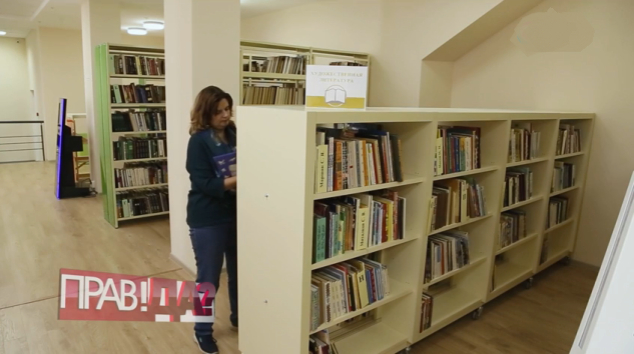
«Представьте себе мир без библиотек!
У нас тогда бы не было ни прошлого, ни будущего».
Рэй Брэдбери
Елена Иванова: Здравствуйте! Это «ПРАВ!ДА?» на Общественном телевидении России. Меня зовут Елена Иванова. А вот о чем будем говорить сегодня:
На протяжении всей мировой истории знания и владение информацией были основополагающей ценностью, а библиотека – как раз тем местом, где эти знания можно было найти. Но за последние три десятилетия все изменилось – от общества дефицита информации мир перешел к ее переизбытку. И главный вопрос для библиотек сегодня: как они должны измениться, чтобы преуспеть в новом цифровом мире?
В России, где библиотечное дело имеет давнюю историю, вопрос сохранения библиотек – это во многом вопрос сохранения культуры. Ситуация подчас драматическая: если в крупных городах библиотечные сети сегодня модернизируются и становятся центрами притяжения молодежи, то в провинции и сельской местности они приходят в ветхость и выглядят просто заброшенными. Так какое будущее ждет библиотеки в России? Да и выживут ли они вообще?
Елена Иванова: Число библиотек в России ежегодно сокращается примерно на тысячу. В начале нулевых работала 51 тысяча библиотек, а сейчас – уже 39. Почему так происходит? Что с этим делать? И надо ли с этим что-то делать? Вот об этом сегодня и поговорим.
А для начала, Александр, ответьте мне, пожалуйста, на такой достаточно простой вопрос. Вот зачем мне, современному человеку, сегодня идти в библиотеку? Что я там могу найти такого, что я не найду в интернете или еще где-нибудь?
Александр Ужанков: Ну, если вы обращаетесь ко мне как к медиевисту, то могу сказать, что только в библиотеке вы можете найти действительно и древние рукописи, и старопечатные книги, и очень редкие издания, которые еще не оцифрованы и которые, в общем, недоступны в интернете, в электронных библиотеках. Поэтому библиотека – это действительно кладезь знаний.
Если мы посмотрим на Средневековье, то мы должны отметить, что западноевропейские университеты – это прежде всего библиотеки. Если мы посмотрим на древнерусские монастыри, то это прежде всего библиотеки. То есть это действительно не просто кладезь знаний, кладезь мудрости, но прежде всего это и образование человека всестороннее, поскольку именно чтение, особенно чтение на Руси и в древности, и в XIX веке, оно формировало личность. И без библиотек, без книги это невозможно сделать.
Елена Иванова: Спасибо. Ну, действительно, получается, что библиотеки нужны, до сих пор актуальны. Александр, а почему тогда так активно они закрываются? На мой взгляд, здесь возможны только два варианта ответа: либо это значит, что они никому не нужны, туда просто никто не ходит, ну, либо просто недостаток финансирования. Какие еще могут быть причины?
Александр Мазурицкий: Я хотел бы присоединиться к коллеге. В 1836 году, когда открывалась одна из первых публичных библиотек в Вятке, один тех людей, которые основывали ее, Александр Иванович Герцен, он сказал: «Библиотека – это открытый стол идей, за который волен сесть каждый». Приходит человек к открытому столу идей в библиотеке, а стол не накрыт, кушать на нем нечего. Почему? Потому что библиотеку лишили возможности нормального комплектования, нормальной подписки на периодику.
А потом же, парадокс ситуации заключается в том, что тех же библиотекарей обвиняют в том, что не приходят люди. А к чему они будут приходить туда? Это очень серьезная проблема. Здесь надо искать корни гораздо глубже – в том материальном обеспечении, которое должно быть, для того чтобы читатель пошел в библиотеку. И здесь неважно… Вот некоторые говорят, что электронные ресурсы. Не в этом дело. Электронные ресурсы – это хорошая вещь, но должна быть библиотека укомплектована и тем, и другим – тогда она в состоянии обслуживать все запросы пользователей. Вот мое мнение по этому поводу.
Елена Иванова: Спасибо. Любовь, вы тоже считаете, что не приходят, потому что стол не накрыт, так сказать, как Александр сказал? Или, может быть, все-таки это связано с тем, что культура чтения бумажных книг, культура чтения вообще, а тем более культура чтения бумажных книг в библиотеке, ну, не сказать, что отмирает, но, по крайней мере, уходит куда-то в прошлое?
Любовь Казаченкова: Лена, вы знаете, я здесь вижу несколько вещей. Есть факторы объективные. Давайте частно, у нас население страны не растет, села у нас закрываются, люди уезжают из сел. А зачем там будет библиотека? Непонятно. Зачем тратить государству деньги, когда в селе осталось 10–15 стариков? Гораздо лучше потратить деньги областной библиотеке на покупку библиобуса, чтобы этот библиобус привозил книги, журналы – то, что необходимо этим людям для какого-то информационного собственного поля. Это одна проблема. И демография у нас не увеличивается. Она, может быть, увеличивается в городах за счет притока рабочих мигрантов, но это уже совершенно другая вещь.
Безусловно, вторая проблема – это… Ну, опять же что греха таить? Вот если совсем честно, то экономика России… хоть нам и говорят о том, что она растет какими-то невероятными темпами, но на самом деле мы это видим прекрасно по бюджету, который тратится на учреждения культуры, и не только на библиотеки: он год от года не увеличивается, а он снижается. Сейчас, конечно, есть нацпроект «Культура», он уникальный, там большие государственные деньги заложены, там 4,2 миллиарда рублей на его реализацию, на открытие 660 библиотек в стране, новых, модернизированных, с хорошим фондом и все остальное и прочее. Но в предыдущий-то период времени денег никто… как бы давали все по остаточному принципу.
Елена Иванова: То есть все-таки причины основные – это экономические причины, да?
Любовь Казаченкова: Конечно, конечно.
Елена Иванова: Маргарита, вы согласны с этим? Все-таки в этом причина, а не в том, что просто люди сами теряют к этому интерес?
Маргарита Баева: Причин очень много. Давайте мы все-таки разграничим понятия – городская библиотека и сельская. То есть мы говорим о закрытии каких библиотек?
Елена Иванова: Я думаю, что и тех, и других. Но в основном, конечно, маленькие библиотеки – там совсем беда.
Маргарита Баева: Вот видите, я не знаю о закрытии городских. Там, может быть, сокращение ставок идет – это про городские. А про сельские… Понимаете, лет пять назад прошло массовое закрытие библиотек. Людей не спросили, люди хотели. Фонды исчезли. То есть мы сейчас просто, например, комплектуем сами, просто волонтеры, несколько библиотек создаем с нуля. То есть люди читать хотели, в библиотеку они ходили. Просто сократилось финансирование. Насколько я понимаю, федеральное финансирование прежнее было спущено на районы, а районы – им как бы протопить свои клубы, библиотеки, школы. И все, и поступлений нет, и ставок нет. То есть проблема как раз не в людях была. Люди читать хотят.
Елена Иванова: Ольга, но снижается же количество читателей не только в таких… Если даже наоборот предположить, что в маленьких сельских библиотеках люди хотят и ходят, но, к сожалению, там закрываются, то в городах-то пустые стоят библиотеки, несмотря на то, что там все условия созданы. Пожалуйста, тебе и кондиционер, и удобные читальные залы, но люди не ходят.
Ольга Мезенцева: У нас действует так называемый 131-й закон о местном самоуправлении. Что это такое? Каждый субъект имеет полные полномочия решать судьбы библиотек так, как ему кажется целесообразным. И, понимаете, не всегда на местах… Иногда гонятся за этой призрачной экономией. Кажется, что если закрыть библиотеку, а еще лучше, если объединить несколько библиотек в одну, то получится какой-то экономический эффект. Вот этот экономический эффект, во-первых, мизерный, а во-вторых, он… Ну, в частности я представляю детские библиотеки. В нашем случае он приводит к тому, что мы теряем поколение читателей, мы теряем своих детей.
Елена Иванова: Конечно, люди-то не доедут просто физически туда.
Ольга Мезенцева: А вот касательно второй части вашего вопроса – насчет того, ходят или не ходят. Вот я счастливый человек, потому что я работаю в детской библиотеке. И я хочу сказать, что у нас библиотеки детские совсем не пустые. Дело все в том, что дети хотят читать. И родители хотят, чтобы у них росли грамотные и культурные дети.
Елена Иванова: Хотят? Будем честны, положа руку на сердце. Или им просто задают и обязывают, вот этот список литературы на лето?
Ольга Мезенцева: Нет, задают, задают, и это совершенно отдельная тема. Сейчас объемы заданий, конечно, превышают все мыслимые и немыслимые, так сказать, нормативы, скажем так.
Елена Иванова: Может, с этим связано то, что детей много всегда в библиотеках? Это правда, здесь я с вами даже спорить не буду, в детских библиотеках всегда многолюдно.
Ольга Мезенцева: Елена, вы заметьте такую вещь, что все-таки литература для выполнения школьных заданий… А у нас существует сеть школьных библиотек, и их больше 40 тысяч. Другой вопрос – какие они? Есть очень хорошие, есть хорошо укомплектованные, есть центры, подобные «Сириусу». А есть и совсем маленькая комната, где на полставки работает библиотекарь, он же учитель, он же и все другое. Я говорю о детских библиотеках именно общедоступных и специализированных. Потому что исторически такое разграничение есть, что школьная библиотека комплектует учебники, литературу в помощь изучения разных предметов, а детская – это все-таки внеклассное, досуговое чтение.
Сейчас проблема в том, что… Посмотрите на любую книжную ярмарку – и вы увидите прекрасные детские книги. Но вы посмотрите на их цену. Очень немногие родители могут себе это позволить. Я не говорю о тиражах, потому что тиражи маленькие. В Москве и в Питере дети их видят, но даже не во всех городах-миллионниках. А если мы с вами отъедем в село, так мы…
Елена Иванова: Нет вопросов. Именно поэтому, действительно, детские библиотеки вызывают меньше вопросов, потому что. Конечно, там все равно всегда много народу.
Ольга Мезенцева: Да. И поэтому детская библиотека… Я думаю, мы позже еще поговорим о других возможностях детской библиотеки.
Елена Иванова: Александр, а с взрослыми как быть? Я вижу, что вы не согласны с тем, что пустые стоят читальные залы. Вы другую картину видели, да?
Александр Мазурицкий: Нет, я не согласен знаете почему? Понимаете, просто есть определенный дисбаланс между теми библиотеками, которые довольно-таки успешные, и теми, которые… действительно, и мало людей туда приходит. Этот дисбаланс зависит от очень многого. Первое – это взаимоотношения с региональными органами власти. Это то, насколько местная власть поддерживает библиотеки, насколько она участвует в том, что делается в библиотеках, насколько она заинтересована. Это сплошь и рядом.
Второй момент. Конечно, не будем сбрасывать со счетом квалификацию сотрудников, которые там работают, и руководителя. Вот мы программу как бы с вами обсудили, но мы не обсудили… И хотелось бы хотя бы два слова об этом сказать сегодня о кадрах. Почему? Потому что то, о чем мы с вами будем говорить, зависит в конечном итоге от тех людей, кто работает в библиотеках. Это очень важная проблема. У нас же и в каждом ведомстве есть библиотеки. Вот мы сейчас говорим больше о библиотеках системы Министерства культуры. Но Ольга Петровна права, она сказала, что школьные библиотеки. Библиотеки высших учебных заведений, библиотеки Академии наук, библиотеки научных центров…
Ольга Мезенцева: Больничные, тюремные.
Александр Мазурицкий: Да. В принципе, как можно угодно относиться к старому времени, но раньше был такой орган, который координировал эту деятельность – Государственная межведомственная библиотечная комиссия при Министерстве культуры. И была определенная стратегия. Сейчас, к сожалению, у нас это напоминает мне удельные княжества, и в каждом удельном княжестве своя стратегия развития. Так не должно быть. Должна быть общенациональная государственная политика в библиотечном деле, ее надо создавать, ее надо формировать.
Елена Иванова: Спасибо. Максим, ну а вы как считаете? Вот вы основатель электронной библиотеки, да? Все-таки ваше мнение – потребность людей ходить именно, так сказать, в офлайн, в обычные библиотеки до сих пор есть, до сих пор это актуально? Или все-таки молодежь особенно сейчас переходит в интернет, и действительно там все можно найти, все удобнее и быстрее?
Максим Мошков: Давайте я скажу с точки зрения читателей. Библиотекари собирают книжки и думают, почему к ним приходят или не приходят. Мы – читатели просто. Нам иногда бывает нужно книжку прочесть. Пересчитайте людей, которым нужно читать книжки. И здесь знаете что я заметил за последние годы? Я в детстве и в юности прочел книжек тысяч пять как минимум, потому что каждый день по книжке читал. Книжек было нигде не достать, поэтому я был записан в шесть библиотек или в пять параллельно. В каждую раз в неделю сходишь, по пять книжек заберешь – и вот так все это вертится. Ну, как бы это было время, когда библиотеки мне были нужны, именно мне.
Сейчас у нас 2000-е годы. Так вот, последний раз в библиотеке я был, чтобы взять книжку, 30 лет назад, ну, может быть, 25. То есть за 25 лет я библиотеки посещал, выступал с лекциями, какие-то мероприятия были, с Медведевым встречались, еще с кем-то, но вот за книжкой в библиотеку – даже в голове не приходит.
Елена Иванова: Но тут вопрос: почему вам это в голову не приходит? Вам, может, не нужно сейчас?
Максим Мошков: Нет, мне – человеку, который книжки до сих пор читает каждый день.
Елена Иванова: То есть вы уверены, что любую книжку можно найти в электронном виде?
Максим Мошков: Нет, я точно знаю, что нельзя и не найдешь, очень многие книжки не найдешь. Но как бы станьте на место читателя. У него просто была задача – достать книжку почитать. Раньше библиотека была ровно одним из трех мест, где он ее мог получить. Он мог ее купить, при советской власти можно было купить не всякую книжку, многие просто невозможно, не удавалось. Он мог ее прочитать в литературном журнале, потому что там их печатали вот так. Он мог ее иметь дома у себя, у друзей, у знакомых – либо в библиотеке. И библиотека тогда была источником востребованным.
Сейчас все потихонечку меняется. Напечатали все книжки, в интернете накидали книжек, в книжных электронных магазинах это появилось. А библиотека… Давайте так. Зачем я пойду в библиотеку? Вот конкретно за чем? За книжкой, которую я…
Елена Иванова: Вот я как раз и начала именно с этого вопроса. За какими-то редкими книгами. Каждый, кстати, за разной.
Максим Мошков: Вот кто пойдет?
Елена Иванова: А давайте на секундочку я вас прерву. Дело в том, что вы сказали: «Давайте спросим у читателей». Вот мы спросили у читателей. Давайте посмотрим, у меня есть графика – опрос ВЦИОМ 2015 года, очень любопытный. Людей спросили: «Как вы считаете, через 10–15 лет классические библиотеки с традиционными книгами сохранятся или исчезнут?» Вот 64% людей все же ответили, что сохранятся. 30% – что нет. Ну и 6% затруднились с ответом. То есть все-таки у нас как-то оптимистично читатели настроены, да? Маргарита, как вы можете прокомментировать такие результаты?
Маргарита Баева: Максим, вы же уже сформировавшийся читатель. И вы на бумажных вариантах росли. Согласитесь? И я тоже. Я вот работаю с детишками, я учу их читать, в частной школе работаю. И я вижу, как в шесть лет они все тянутся. Но я не могу их на электронный носитель перевести, ни в коем случае. Если только родители откроют им вечером, допустим, книжечку, который нет дома, и почитают. И это прекрасно. И лет до двенадцати невозможно работать в школе по электронному носителю, я пробовала, потому что… Они уже с читалочками, они могут почитать, но на уроке нужен бумажный вариант. То есть я за все формы, так сказать. Поэтому дети и ходят в библиотеки. Если дома нет – пожалуйста, в библиотеке есть бумажная книга.
Максим Мошков: А дальше просто математика, простейшая арифметика. Раньше читали книжки бумажные все с 5 лет до 70. Сейчас вдруг – хоп! – школьники… Причем только младшие – им «бумагу» читать легче, соглашусь. Потом школьники старшие – они только учебники, и все, ну и обязательная программа. А потом человек выходит на работу молодой, и он просто вообще ничего не читает, потому что (по себе знаю) работа, работа, читать некогда вообще ничего. А потом проходит время, когда хочется почитать… Короче говоря, число, объем общей потребности чтения книг сократился где-то раза в два, потому что…
Елена Иванова: А с чем это связано?
Максим Мошков: Он либо заместился, либо переехал в какие-то другие области, перенаправление внимания – в телевизор, в сериалы, в интернет, в социальные сети. Они «отгрызли» очень много читательского времени.
Елена Иванова: Вот это интересный момент.
Максим Мошков: И плюс интересы людей тоже после этого следом перенастраиваются. Плюс электронное чтение добавляется. Заметная доля тех, кто читает активно – они соскочили с «бумаги» на «электронку», и им хватает. И не потому, что там есть все, но потому, что человеку обыкновенному нужно, условно говоря, 100 страниц книжки на день, если он читает много. Тому, кто читает очень много – ну, 500 страниц книжки. Слушайте, уже сейчас напечатано примерно 100 тысяч в электронной форме, а в библиотеках лежит 15 миллионов томов. Соответственно, того, что есть в интернете, хватит человеку читать всю жизнь по несколько раз. Уже решится проблема, когда нужно читать просто.
Елена Иванова: Спасибо.
Максим Мошков: И поэтому найти книжку, которую человек будет искать, именно пойдет за ней куда угодно, лишь бы она была – это одна книжка из пятидесяти. Вот и остается… как бы схлопывается пространство. Это как с лошадьми: мы все мы их любим, они такие красивые, нежные, требуют…
Елена Иванова: Но все-таки есть мнение, что всегда останутся люди, которые любят, что называется, пошуршать страничками, почитать эту бумажную литературу. Александр, вот как вы можете оценить?
Александр Ужанков: Вы понимаете, если мы посмотрим на чтение в самом широком смысле, то это что за занятие? Это для удовольствия. Это профессиональное занятие. Это подготовка в школе или вузе по какому-то предмету и так далее, и так далее. То есть это будет совершенно разное чтение.
Но я хотел бы обратить внимание, скажем, на массовые библиотеки. И зачем, в общем-то, ходили в массовые библиотеки, зачем их посещают сейчас? Взять действительно какую-то книгу, которая, что называется, «для души». Я не говорю сейчас о профессиональном чтении. Но у нас что парадоксально? У нас резко упала культура чтения. В принципе, мы не умеем читать.
Елена Иванова: Любого, да? Не только чтения бумажных книг, а вообще чтения?
Александр Ужанков: Любого. Электронную книгу читать гораздо сложнее. Ну, если она очень простая, если это какой-то детектив, то это можно. Но Достоевского или Пушкина, или Гоголя в электронном виде читать практически невозможно. Я вам объясню – почему.
Елена Иванова: Аудиоформат сейчас очень популярен.
Любовь Казаченкова: Очень хорошо читаются. Почему?
Александр Ужанков: Ну, я вам сейчас объясню – почему. Мне очень здорово повезло, потому что моим учителем в университете был Алексей Владимирович Чичерин, известная фамилия. Он еще заканчивал классическую гимназию до революции. И он говорил: «Нас учили медленному или пристальному чтению, то есть очень скрупулезно изучать текст».
Елена Иванова: Вдумчиво.
Александр Ужанков: Вдумчиво. Ну, скажем, любое художественное произведение должны читать минимум дважды.
Елена Иванова: «Сейчас на это нет времени», – Александр, вам скажут студенты.
Александр Ужанков: В том-то все и дело, в том-то все и дело. Потому что, скажем, мое поколение – нас учили скорочтению. Скорочтение объяснимо или полезно при чтении научных книг, когда просто сканируешь и берешь ту информацию, которая тебе нужна. Но художественное произведение так читать невозможно, потому что деталь – царица смысла. Если читаешь быстро, ты просто не замечаешь деталей.
Поэтому я своих студентов, например, учу читать только бумажные книги и обязательно с пометами на полях. И первое прочтение – самое интересное. Почему? Потому что вот те пометы, которые студент сделал на полях, когда он возвращается к этому через 5, через 10 или через 20 лет, он просто открывает самого себя. Понимаете? Потому что для него в этот момент, когда ему, условно говоря, 18–20 лет, для него вот это было важно, вот эта деталь какая-то, этот смысл, он его открыл. Через 20 лет его будет интересовать совершенно другое. И он уже открывает сам самого себя.
Понимаете, у меня очень большая библиотека домашняя – более 10 тысяч книг. И это библиотека трех специалистов по древнерусской литературе в том числе. И мне интересны даже их записи, которые они оставляли на полях. Это просто бесценные совершенно комментарии.
Елена Иванова: Ну, в библиотечных книгах, справедливости ради, отметочки на полях не оставишь.
Александр Ужанков: О то и речь.
Любовь Казаченкова: А в чем проблема? Любая электронная книжка сейчас позволяет оставлять «заметки на полях», делать для себя цитаты, как мы раньше выписывали на карточках библиотечных какие-то понравившиеся цитаты.
Александр Ужанков: И где все это храните?
Елена Иванова: Ну, в электронном виде, на носителях.
Александр Ужанков: Да? И потом все это погибает.
Любовь Казаченкова: На своем компьютере, на своем гаджете. Ну, это вообще не вопрос.
Елена Иванова: Все-таки темп жизни очень сильно вырос, Александр, да? И сейчас по два раза перечитывать так вдумчиво и правильно, как говорит Александр, каждую книгу – ну, это, конечно, такой идеал, но достижим ли он?
Александр Мазурицкий: Вы знаете, какая тут проблема? Когда всегда начинается спор людей тех, кто читает традиционно, и тех, кто представляет новые технологии, всегда я говорю: в принципе, вот лично для меня, человека книги, не столь важно, на чем человек читает.
Любовь Казаченкова: Абсолютно согласна.
Александр Мазурицкий: Абсолютно. Это напоминает спор физиков лириков. Я считаю для меня самым важным то, что называют контентом, содержанием – что человек читает. А это очень важная проблема. Почему? Потому что, я помню, мы же выросли в стране книжного дефицита. Я помню, как я был самый счастливый человек в Москве когда? Когда я сдал 80 килограмм макулатуры и купил Джека Лондона, четырехтомник. Я был самый счастливый человек, когда я был методистом в библиотеке, ездил в командировки и покупал в регионах книжки на плохой бумаге, которые нельзя было купить в Москве.
Художественной литературы практически не было. Почему не было? Ответ для меня очень простой: потому что основные типографические мощности шли на публикацию общественно-политической литературы. Художественную книгу невозможно было достать.
Но, кроме того, что было, что мы потеряли? Был культ книги. Помните, как определялась культура любой семьи? Какие книжки стоят на полке, вот эти корешки книг. Людям давали как премию на работе подписку на какое-нибудь подписное издание. Это же престиж был! Вот этот культ книги как-то утрачивается. Смотрите, если появлялся томик Пушкина или Есенина в магазине – толпа людей! Сейчас все это лежит, а потребителей всего этого что-то мы не видим. Понимаете? Мы не видим этого.
Елена Иванова: Сейчас обратная тенденция, люди: «Пожалуйста, забирайте бесплатно». Вот сколько сейчас объявлений: собрание сочинений того-то, собрание сочинений классиков.
Александр Мазурицкий: Значит, есть какая-то проблема, которая выходит за рамки чисто библиотечной. Эта проблема – социальная. А почему вдруг так получилось?
Елена Иванова: Маргарита, вы давно хотели добавить. Пожалуйста.
Маргарита Баева: Вы знаете, так получилось, что я работаю с первого по девятый класс с детишками в частной школе, и я вижу, как развивается читатель. Вот начальная школа – учебники чудесные у нас, они унифицированные. То есть что детские рассказы Чехова, что Драгунский – пожалуйста, сегодняшний ребенок практически все это понимает, немножко лексику объяснишь. Но дальше, понимаете, обидно – у нас хорошие, но мертвые учебники. Там нет уже живых авторов. Уже нет в живых Распутина, да? Учебники шестого класса – 80-й год, рассказы Шукшина. Получается, что дети учатся… Это нужно читать, это наша классика, но они должны читать и современных.
Александр Мазурицкий: Оно не отражает современные реалии.
Маргарита Баева: А за 40 лет, получается, массовые учебники, нигде ничего не обсуждалось, у нас писателей никаких нет. А тот же «Сахарный ребенок» чудесный Громовой? Да много книг. И получается, что дети вне контекста. Они не виноваты.
А знаете, как делают итальянцы? Просто я работаю в итальянской школе. И я спросила как-то: «А как у вас с литературой?» Вот старшая школа, у них два учебника параллельно: их классика замечательная (Данте, Петрарка), и идет совершенно замечательный пласт современной литературы. Уж не знаю какой, но это их литература, понимаете, чем живет их страна, 2010 год. И я завидую, потому что… Ну почему нам так не сделать? Почему мы Распутина замечательного, например… Он пишет в 76-м году «Прощание с Матерой» – и я уже в 85-м это изучаю. Посмотрите, это все прошло все советы писателей. Получается, что советское время было более мобильное, чем сейчас.
Елена Иванова: Хорошо, спасибо. Господа, давайте все-таки вернемся к библиотекам. Любовь, вот ваш журнал называется «Современная библиотека». Вот расскажите нам, пожалуйста, что такое современная библиотека? Вы какой смысл вкладываете в это слово «современная»?
Любовь Казаченкова: Очень большой. Спасибо за этот вопрос. Потому что я стою, слушаю, и все очень здорово, все очень классно – и про прочтение, и про проблемы образования. Но почему-то получается, что в вину библиотек сваливают не только проблемы социальные, но вообще проблемы геополитического и вселенского масштаба. На минуточку, у нас идет сейчас не смена поколений, а у нас идет смена исторических эпох, и меняется все – и общественное сознание, и восприятие. И, пардон, планета наша – тоже живой организм, и она тоже на нас влияет. Вы посмотрите, мы даже мыслим все иначе.
А когда говорим о чтении, про библиотеки, то это только-только территория чтения. Ну, отнюдь. Библиотека – это не только про чтение. Библиотека – это в первую очередь коммуникация, это общение, это возможность реализовать себя, возможность получить новое знание для себя лично, возможность утвердиться в каких-то вещах, найти единомышленников. То есть библиотека – это центр не только чтения, а это в первую очередь центр коммуникации человека с книгой, человека с человеком, человека с технологией, человека с хобби и так далее и тому подобное.
Елена Иванова: А вот это ключевой и самый важный вопрос. Ольга, а какой должна быть эта коммуникация? Потому что здесь мнения концептуально расходятся: кто-то считает, что это должно быть именно просветительское, культурное общение, а кто-то считает, что библиотеки должны стать таким досуговым центром, где возможно все что угодно, вплоть до еды, ну, именно тусовки. Вот то, о чем говорила Любовь – общение, но именно как некая такая тусовка, если современными словами.
Ольга Мезенцева: Нет, вы знаете, я хочу сказать, что сейчас библиотеки открывают очень широко свои двери. И на самом деле даже статистика наша показывает, что у нас очень многие люди приходят на события. Книговыдача начинает, так сказать, снижаться, а вот на события идут.
Елена Иванова: Какие события?
Ольга Мезенцева: Ну, простой пример. Есть такая большая акция «Библионочь», она проходит по всей стране. Вот у нас в недавнюю «Библионочь»… Ну, у нас «Библиосумерки», мы не можем ночью работать, мы детская библиотека. Значит, у нас пришло 2,5 тысячи человек в один день. У нас проходит Всероссийский фестиваль детской книги, и не только у нас, а и на региональных площадках – это за три дня 8 тысяч человек. То есть это людей привлекает, это создает какие-то новые для них возможности.
Заметим сразу, что часть людей приходит, которые вообще не знали, что библиотека есть, что она работает. А есть и такое мнение в обществе. Тут они с удивлением и радостью узнают о том, что мы работаем, мы открыты, у нас есть все, начиная от таких больших мероприятий и заканчивая «Чтением с собакой», например, наш такой очень интересный проект. Ну, что вы смеетесь? На самом деле человек, который испытывает сложности, ему проще в коммуникации…
Елена Иванова: А можно прийти только с собакой?
Ольга Мезенцева: Нет-нет.
Елена Иванова: А, там есть собака?
Ольга Мезенцева: Нет, к нам два раза в неделю приходят собаки. Не с улицы мы их берем, а они приходят из особого фонда, который называется «Не просто собаки», они специально обученные. И дети… Там у нас запись огромная!
Елена Иванова: Вот это да!
Ольга Мезенцева: Дети записываются с родителями. И они собаке читают, они не стесняются. И собака слушает. Поэтому это такой…
Елена, я вот что ла заметить? Понимаете, если мы будем превращаться в место тусовки… Хотя совершенно не исключено, что при этом, например, у нас прекрасное кафе, потому что родители приходят на целый день часто с детьми. У нас еще какие-то есть вещи, и гамаки, и то, что детям нравится, и то, что их привлекает. Но мы очень четко соблюдаем свою основу – то, чем библиотека, вообще-то, отличается от клуба. У нас мероприятия на литературной основе. И если мы поем, то мы поем по литературному произведению, и потом детям интересно взять эту книжку. Если мы танцуем или фестивалим, то у нас все это идет на такой литературной основе.
Елена Иванова: Ну, с детьми – опять же здесь более понятно. А как все-таки с взрослыми? Я никак понять не могу. Максим, вы хотели добавить.
Максим Мошков: У меня библиотека электронная, поэтому я знаю, сколько каких книжек читаю, и главное – когда. И если взять русскую классику, то по ней у меня по каждому автору есть такой всплеск, горб, когда в течение двух недель его читают больше, чем всегда, во все остальное время. И по этому горбику я точно могу посмотреть, какая дата и что проходят сейчас студенты и старшеклассники в вузах, потому что это со школьной программой совпадает. Ну, это ладно.
А вот то, что несколько недель назад в моей библиотеке «Собор Парижской Богоматери» прочло в течение трех дней 10 тысяч человек – мы назовем это странной случайностью или культурным всплеском.
Елена Иванова: Ну, это да. Это действительно печальное событие было. Да, Александр.
Александр Мазурицкий: Возвращаясь к теме…
Максим Мошков: А вот бумажная библиотека эту проблему бы не решила. И никакой пожар не помог бы всем людям прочесть несчастного Гюго.
Ольга Мезенцева: Не стоит противопоставлять. Понимаете, главное, чтобы человек читал.
Елена Иванова: Да, не хотелось бы, чтобы такие поводы стимулировали людей к чтению. Да, Александр.
Александр Мазурицкий: Вы знаете, я хотел бы добавить. Тут какая есть проблема? Ольга Петровна сейчас сказала об этом. Понимаете, библиотека может активно развиваться в плане культурно-досуговых мероприятий, и ничего страшного нет в этом. Но любое действие библиотеки должно заканчиваться обращением к ее информационным ресурсам.
Для чего тогда эта библиотека? Для того чтобы люди стали читать или получали информацию из нее, вот в чем дело. И у нас, к сожалению, те, кто проводит оптимизацию в регионах, они путают два понятия: библиотека как культурно-досуговый центр и библиотека как культурно-общественное пространство. Вот вы говорите…
Елена Иванова: Любовь говорит, что важнейшая вещь – это все-таки общение, не чтение, а общение.
Александр Мазурицкий: Общественное пространство, общественно-культурное пространство, не культурно-досуговый центр. Поймите, в культурно-досуговом центре досуговая деятельность должна осуществляться профессиональными людьми, и это не библиотекари.
Елена Иванова: Да, Маргарита, пожалуйста.
Маргарита Баева: Можно ваши слова подкрепить письмом библиотекарей? Я узнала, что сюда иду, только в субботу вечером. Обратилась к нашим сельским библиотекарям. И вот они мне сегодня всю ночь писали. «Очень часто КПД массовой работы невысокий. Лучше больше времени уделять общению с читателями, – это пишет библиотекарь из глубинки с огромным стажем работы, – но этого наверху не понимают. Массовая работа в больше дает разовый эффект. А вот сделать так, чтобы человек к тебе захотел прийти еще, можно, только наладив личный контакт». И вот так все говорят.
Любовь Казаченкова: Ну, это сельский вариант. Конечно, в городе…
Маргарита Баева: Но это же читатель…
Елена Иванова: Про сельский обязательно сейчас поговорим, а прежде я хотела показать еще одну любопытную графику.
Это также опрос ВЦИОМ. Людей спросили: «Что можно сделать, чтобы привлечь больше посетителей в библиотеки?» И вот здесь любопытные такие цифры. Смотрите, на первом месте идет «Разнообразить и обновить книжный фонд» все-таки. «Установить компьютеры с доступом в интернет», «Открыть культурно-досуговые кружки», «Рекламировать библиотеки и чтение», «Перевести библиотеки в более удобные и современные здания», «Обеспечить более удобный режим работы», «Кроме книг, предоставить доступ к музыке и фильмам» (вот это очень спорный пункт), «Организовать возможность купить еду и напитки». И последний пункт – «Библиотекам не нужно больше посетителей», тоже очень любопытный, кстати.
Александр, вы как можете оценить результаты этого опроса?
Александр Ужанков: Понимаете, вот смотрите, здесь действительно библиотеку воспринимают как досуговый центр, но не как носитель информации – там, где есть книги, которые нужно брать и которые нужно читать. Мы опять упираемся в проблему чтения, поскольку… Ну, в который раз я уже, наверное, к этому возвращаюсь в различных передачах. Мы, к сожалению, утратили вот ту самую культуру чтения, которая была у нас, даже в советское время. И сейчас школы не готовят ребят к самостоятельному чтению. В лучшем случае их натаскивают на ЕГЭ, чтобы сдать экзамены.
Студенты… точнее, школьники, ставшие студентами, не знают русскую классику, приблизительно 70% русской классики ими не освоено. И это не потому, что она неактуальная или это мертвые книги. Наоборот, это самая живая классика и самые живые книги. Другое дело, что даже те учителя, которые приходят в школы (в общем, это сказываются уже 90-е годы, недавнее наше прошлое), они тоже соответствующим образом как филологи плохо подготовлены, они сами не могут объяснить школьникам то или иное произведение. А зачастую им просто не хватает времени.
Я простой приведу пример. В Московском государственном лингвистическом университете я читал 20 лет курс русской литературы, в том числе и журналистам. Там различные были факультеты. И получилось так, что на первом и втором курсе я им четыре семестра читаю, а затем я с ними прощаюсь. И вот они как-то ко мне подходят и говорят: «Александр Николаевич, мы не хотим расставаться с русской литературой».
И вы знаете, они после окончания вуза еще лет десять приходили ко мне, мы собирались раз в месяц, договаривались, что читаем одну книгу, а потом ее разбираем. Понимаете, когда они делают открытия в чтении, нет ничего более интересного. Они сами растут, и они видят этот рост. Понимаете? Это и становление личности, поскольку они уже не студенты, они уже выпускники, они уже работают, причем успешные журналисты, тем не менее для них было важно это чтение и контакт с огромным пластом русской культуры, русской литературы.
Елена Иванова: Хорошо. Смотрите, ну понятно, что чтение, конечно, должно быть основой любой библиотеки. Но другой вопрос: как привлечь туда людей? Вот чем плох западный образец, например, Александр? Я знаю, у меня приятели были сейчас в Амстердаме, на улице прохожего остановили и спросили: «Слушай, а где можно вкусно и дешево поесть с красивым видом на город?» Он говорит: «Ну, в библиотеку идите». То есть там это вообще норма, это не считается… То есть библиотека не считается каким-то священным зданием, где нужно только читать. Это, в общем-то, норма, что это некий центр, где можно и поесть, и посмотреть на город, и пообщаться, и в то же время почитать. Разве это неправильно?
Александр Мазурицкий: Нет, это нормальная ситуация. Я говорю о том, что это делается и есть. Но там это делается не в ущерб основному предназначению. Кстати, обратите внимание… Вот зря убрали эти цифры. Первые две-три цифры – они очень интересные. О чем говорит первая цифра? О необходимости фондов, а вторая – о необходимости интернета. 54% этого опроса за то, чтобы в библиотеке были хорошие информационные ресурсы – и в электронном виде, и в таком. Понимаете? Это говорит, что все-таки в этом опросе показано то основное предназначение библиотеки, которое и должно быть.
А то, что в библиотеках у нас появляются, например, кафе, причем в кафе проводят мероприятия – и нормально. Проводятся мероприятия в кафе, книги о литературе, литературные вечера. Ничего в этом страшного нет.
Александр Ужанков: Ну простите, я не могу себе представить, чтобы читать «Преступление и наказание» с большим биг-маком, поглощая при этом биг-мак, читая Достоевского.
Александр Мазурицкий: Нет, я говорю… Понимаете, в чем дело? Вот вы сейчас исходите из тех крайностей, которые у нас есть.
Елена Иванова: А почему нет? Это неуважение к Достоевскому?
Александр Мазурицкий: Понимаете, в чем дело? Александр Николаевич, вот я говорю, что есть крайности в представлениях. Есть классическая библиотека и есть библиотека для молодежи, для юношества. Это разные библиотеки со своими задачами. Например, я не могу себе представить, что в третьем читальном зале в «Ленинке» стоят пуфики, где можно полежать, развалиться. Не может быть такого в такой библиотеке. А в юношеской библиотеке это есть.
Детские библиотеки – я люблю туда водить студентов. Они видят то, как должны себя вести дети. Они там могут посидеть, полежать, пообщаться где-то. Конечно, это библиотеки другого типа. Это совсем другая задача. И никто не будет там читать, конечно, в таком антураже «Преступление и наказание» и все остальные книги. Понимаете, в чем дело?
Елена Иванова: Хорошо.
Александр Мазурицкий: И многие проблемы – это крайности. Не надо. Должно быть разное.
Елена Иванова: Спасибо. Господа, к сожалению, перебью. Очень хочется отдельно поговорить о такой большой теме, как сельские библиотеки. И прежде чем мы перейдем к этой теме, хотела… Сюжет у нас есть очень хороший про женщину, которая совершенно бескорыстно помогает сельским библиотекам. Давайте посмотрим, а потом продолжим нашу беседу.
СЮЖЕТ
Елена Иванова: Маргарита, расскажите, в каком состоянии все-таки находятся сельские библиотеки.
Маргарита Баева: Наталья – это наша подруга. И как раз уже лет десять мы сначала стихийно, а потом при помощи нашей замечательной группы «Помощь сельских библиотекам и библиотекам Русского Севера» занимаемся. Библиотеки сельские в очень плохом состоянии. Вы знаете, от тысячи читателей – еще как-то они крутятся, они могут оказывать платные услуги (в общем-то, к чему сейчас их принуждают), и на эти деньги они как-то покупают книги. В сельские от силы 20–30 книг в год поступает.
Елена Иванова: А какие, например, платные услуги? Вот это интересно.
Маргарита Баева: Платные услуги? Ксерокопирование.
Елена Иванова: Ксерокопирование? Вот эти стандартные, да?
Маргарита Баева: И так далее, да. Вы понимаете, мы все-таки ездим по сельским больше, мы связаны как бы с деревнями по другому роду общественной деятельности. И мы столкнулись просто с ужасом. То есть детки маленькие, их надо брать, пока они хотят читать, 6–7 лет, а все истрепанное. И они просто бросаются. Они не просят для себя денег, они не просят ничего. Они просят: «Только привезите нам книг». Они подбегают к поездам в полпервого ночи, бегут из своих деревень. Они на дорогах «голосуют», меняются, хотя им таскать почти всем нельзя, там такое детство было на фермах. И вообще проблема, ситуация очень тяжелая. Финансирования практически нет, финансирование только на зарплаты.
В Архангельской области… А мы Севером занимаемся. Сейчас уже и Кировская подключается. Вчера написала станция Зима, родина Евгения Евтушенко, тоже ничего нет, поступлений нет. Вот 20 книг в год, и то книги… Я сама лично видела. Книги, которые… ну, половину читать люди не будут. Просят и классику по школьной программе. И, конечно, свеженькие хотят. Их заставляют еще списывать до 95-го года, потому что ветхие, по разным причинам. Соловецкая библиотека списала 7 тысяч книг три года назад, заставили, я уж скажу.
А часто библиотекари боятся говорить. Я, например, выходя на программу, говорила: «Я не буду называть имена. Пожалуйста, напишите». Но мы знаем ситуацию. Подписки нет, подписывают только на районные газеты. И вот у нас люди скидываются на подписку, в прошлом полугодии 200 библиотек подписали.
И вот такие женщины, как Наталья, вот человек десять – костяк. И один у нас… ну, двое мужчин грузят. Допустим, я еду, и 15 человек подбегают с сумками к поездам. И мы по дороге вот так все… мы едем на реставрации церквей и развозим. В принципе, уже по 300 книг таким образом за год они получают, и как-то дело налаживается.
Но, понимаете, нельзя выезжать на волонтерах, нельзя на этих суперзамечательных советских женщинах, которые уже на пенсии сидят в Москве, и вот с этими книгами бегают. У нас одна, например, Вера чудесная, она рассчитывает свою пенсию, чтобы послать – Чукотка запросила книги. Ну, как-то это нехорошо. Мы же налоги платим. Вот надо бы разобраться, почему не доходят поступления, почему их так обижают.
Елена Иванова: Спасибо. Ольга, вы хотели добавить?
Ольга Мезенцева: Да, я хотела продолжить эту тему. Конечно, основная проблема сельской библиотеки – это то самое комплектование. Книжек мало, книжки старые. И неслучайно на эту проблему уже обратили внимание, так сказать, на самом верху. Вспомните хотя бы декабрьский Совет по культуре и искусству при президенте, там президент Российской библиотечной ассоциации об этом говорил. И сейчас, буквально сейчас готовится предложение, и там говорится о комплектовании муниципальных, сельских библиотек, именно небольших. Сейчас принята Концепция поддержки детского и юношеского чтения, вот-вот появится программа – и там тоже красной нитью это идет.
Но я бы хотела поделиться с коллегами и обратить внимание наших зрителей на то, что пока все это решается, конечно, вот такие прекрасные акции – это здорово. Мы тоже организовали акцию, она называется «Подари ребенку книгу». Достаточно зайти на сайт РГДБ, нажать кнопку – и там вам все будет рассказано и показано. Смысл этой акции в том, что любая библиотека, в особенности небольшие библиотеки этим могут пользоваться, она может зайти на этот сайт, только свои контактные данные заполнить – и вываливается так называемый «список желаний». Библиотека пишет, что ей нужно. И любой даритель может понимать… Если он едет, например, на свою малую родину или ему просто хочется сделать подарок, то он сразу видит, что нужно библиотеке.
И еще один очень важный момент. Нам так повезло просто, я считаю, что у нас партнер образовался – это компания «Деловые Линии», вот эти черные грузовики с этой надписью. Они же курсируют по всей нашей стране. Потому что вот для такой женщины, как Наталья, которую нам показывали, вот эта отсылка… Мало собрать книжки, их посылать очень дорого той же библиотеке.
Елена Иванова: Это здорово.
Ольга Мезенцева: И вы знаете, мы таким образом доставляем и в Архангельскую область. Мы собираем книжки на всех больших фестивалях, фестиваль «Красная площадь», ММКВЯ и так далее.
Елена Иванова: Это очень интересно. Ольга, к сожалению, вынуждена вас призвать… прервать, простите. Мне подсказывают, что у нас есть на связи телефонный звонок – Наталия Абросимова из Ярославля, замдиректора по научной работе Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Некрасова. Наталия, здравствуйте. Вы меня слышите?
Наталия Абросимова (по телефону): Да, добрый день. Я вас прекрасно слышу. Добрый день, дорогие коллеги.
Елена Иванова: Наталия, расскажите нам, пожалуйста, как обстоят дела с библиотеками в Ярославской области, с маленькими библиотеками?
Наталия Абросимова: Вы знаете, обстоят дела… Ну, я понимаю, что коллеги тоже говорили о проблемах в других регионах. В Ярославской области с библиотеками сельскими дело плохо. Где-то 80% библиотек находятся на селе в нашей области, они небольшие. И они испытывают очень большие трудности. Трудности эти связаны, конечно, и с комплектованием, о котором сейчас говорили, и с тем, что они находятся в очень стесненных условиях, в старых помещениях, некоторые даже зимой не отапливаются, какие-то отапливаются с помощью дров в XXI веке. В общем, это печально. Мебель старая, выглядит все это непрезентабельно. И конечно, не хватает…
Елена Иванова: Наталия, а закрываются библиотеки из-за этого? Вот сокращения массовые какие-то имеют место?
Наталия Абросимова: Вы знаете, массовых сокращений у нас нет. У нас идут сокращения, зато регулярные – примерно пять библиотек в год в последние годы закрывается. И в основном это связано с тем, что, во-первых, в негодность приходят помещения, а во-вторых, уезжает население из сельской местности, и там просто не остается людей. И это тоже очень большая проблема. Она напрямую не связана с библиотеками, конечно, но опосредованно библиотеки там, где не остается читателей, конечно, тоже существовать не могут.
Елена Иванова: А что касается зарплат сотрудникам библиотек – как обстоит этот вопрос? И готовы ли люди работать за такие деньги, которые предлагают?
Наталия Абросимова: Ну, вы знаете, люди работают. У нас практически нет вакансий в библиотеках. Средняя зарплата по Ярославской области в прошлом году была 33 700 с чем-то рублей, а в библиотеках – от 17 тысяч до 28 тысяч, в разных районах такая зарплата. Соответственно, она не дотягивает до средней. Оптимизация кадрового состава тоже проходит, людей переводят на полставки, на четверть ставки. И библиотеки не работают полный день – это тоже очень большая прима. Для того чтобы выполнить Майские указы, сокращают… уже теперь не сокращают полностью ставки, зато делают такие половинки, четвертинки. Библиотекарь приходит, иногда открывает дверь своей библиотеки, выдает книжки и закрывает обратно.
Елена Иванова: Наталия, а есть ли какие-то пути выхода из такой тяжелой финансовой ситуации? И только ли в деньгах проблема, или есть еще какие-то трудности?
Наталия Абросимова: Да вы знаете, я много и часто думаю о том, в чем же проблемы. Проблемы, наверное, тут комплексные, но все-таки без денег их не решить. Для того чтобы двинуться хоть в какую-то сторону, все равно денежные вложения нужны.
Даже сейчас, чтобы нам поучаствовать в национальном проекте «Культура», область должна сначала вложить средства, подготовить библиотеки, а потом уже заявляться в федеральную программу и как бы дальше их усовершенствовать. Ну, я так чувствую, что этого сделано не будет. В общем, это тоже очень печально.
А без денег… Знаете, у меня ассоциация такая возникает. С нас, с библиотек, очень много спрашивают цифры – посещаемость, книговыдача. И доят корову, которую не кормят уже давным-давно…
Елена Иванова: Спасибо.
Наталия Абросимова: Хотят, чтобы мы давали молоко, но корма при этом не дают.
Елена Иванова: Ну да, понятно, картина безрадостная. Спасибо большое, Наталия, спасибо за этот разговор.
Ну что? Да, действительно… Маргарита, как можете прокомментировать?
Маргарита Баева: Можно подвести итог. Вы знаете, у нас еще не очень хорошо налажена работа, потому что это все вечерами, в свободное время. Но если сейчас, летом, повезут люди своих детишек к своим бабушкам и дедушкам, побегут со списками в библиотеку… Может быть, обращусь я отсюда. Пожалуйста, с книгами приезжайте обязательно в село и несите в библиотеку, а не обращайтесь к нам: «Вывезите в нашу библиотеку, пристройте», – потому что у нас грузят женщины и вывозят женщины. То есть, мне кажется, это хотя бы будет какой-то выход – с книгами ехать в деревню.
Елена Иванова: Да, Александр.
Александр Мазурицкий: Можно? Я себя попробовал в роли такого дарителя. Я на вашем сайте посмотрел, что тульская сельская библиотека просит книги. Я собрал дома, от детей книжки остались, но решил и подкупить, пойти в книжный магазин. И увидел, сколько это стоит. Я собрал деньги, но я купил только три книжки. Отослал посылку.
Вспоминали Михаила Дмитриевича Афанасьева, президента Российской библиотечной ассоциации. Вот он на этом президентом совете сказал, что 80% библиотек сельских комплектуются за счет пожертвований. Такого быть не должно. Исходит это от непонимания… Я говорю, что это глобальное непонимание.
Мое мнение – что такое библиотека? Это стратегический ресурс государства, а не обуза для регионального бюджета. И надо немножко заглянут в историю. Кому обязаны библиотеки существованием своим, возникновением? Мордвинову Николаю Семеновичу, президенту Вольного экономического общества, 1830 год, проект. Кстати, в это время был жив Пушкин, были живы многие другие деятели культуры. Но именно экономист как никто другой понимал, что без грамотного, умного и образованного населения невозможно процветание государства российского. И мне не понятно, почему сейчас такое непонимание.
А особенно – село. Я видел такую сельскую библиотеку, я был там. Я видел уникального библиотекаря, который… Там дети приходят, она там знает всех по головке гладит. Понимаете, в чем дело? Ее судьба незавидна. А почему? Там живет 200 человек всего. Она с детьми общается, она проводит кружки, библиотека полна. Но больше ничего нет, клуба нет в этом селе. Я не буду называть регион, не хочу обидеть, там есть и хорошие библиотеки. Тем не менее, вы поймите, вот ее уберут… И мы говорили сегодня о библиобусе. Вот приедет библиобус. Хорошая вещь – библиобус. Но он выдаст книжки и увезет их. А детей по головке никто гладить не будет. Ты там вообще не нужен, и не только…
Елена Иванова: Спасибо, Александр. Буквально последний вопрос, у меня есть время. Любовь, ну подытожьте. Вот представьте, пофантазируем. Как будет выглядеть библиотека через 20–30 лет? Какой она будет?
Любовь Казаченкова: Вы знаете, прогнозы – вещь абсолютно неблагодарная. И я астрологией не увлекаюсь. 20 лет – это поколение, да? И что говорить о двадцатигодовалой перспективе, когда мы за 10 лет изменились кардинально? Я думаю, что, первое, однозначно библиотеки будут. Вот с этим я совершенно согласна. В каком виде – не знаю.
Вполне возможно, даже если сейчас смотреть и мероприятия, и культурный досуг… Сколько физическими ногами пришло на это мероприятие людей и сколько просмотров реального в интернете? То есть виртуальные посетители, их количество превышает однозначно в несколько раз посетителей реальных, физических. Какие они будут? Я не могу сказать. Но это точно будет и печатные, и электронные, может, уже и голографические книги будут, технологии развиваются очень быстро.
Я знаю только одно: если библиотекарь сегодня не будет думать хотя бы на годика два-три-четыре вперед и не заниматься самообразованием, а будет все время ждать и клянчить что-то – вот тогда этому библиотекарю точно не место в этой библиотеке.
Елена Иванова: Спасибо. Спасибо, господа, за эту беседу. Что же, сегодня говорили о развитии библиотек в России. Мне всю программу вспоминается фраза: «Тишина должна быть в библиотеке!» Но главное, чтобы эта тишина была потому, что интеллигентные люди тихо сидят и читают книги, а не потому, что в читальном зале просто никого нет.
А «ПРАВ!ДА?» всегда только на Общественном телевидении России. Спасибо, что смотрите. Всего доброго! До свидания.