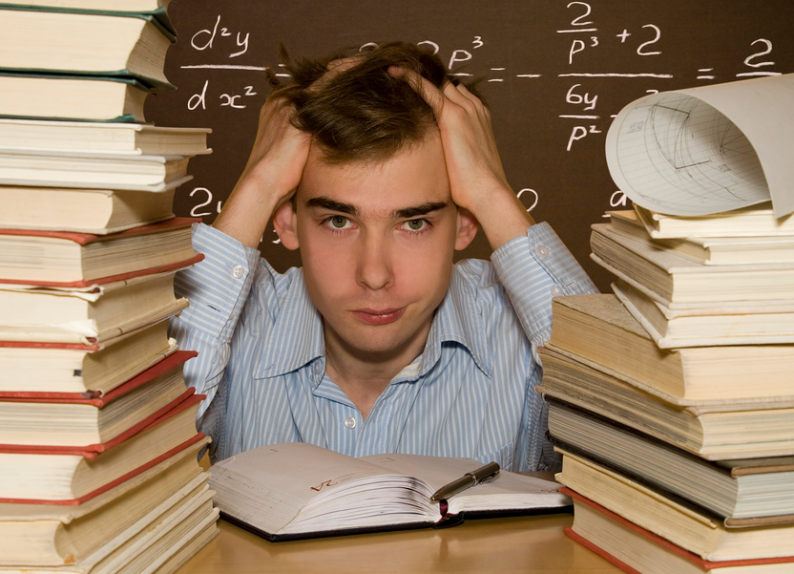Приемная кампания 2021: что изменилось?
https://otr-online.ru/programmy/prav-da/priemnaya-kampaniya-2021-chto-izmenilos-51142.html 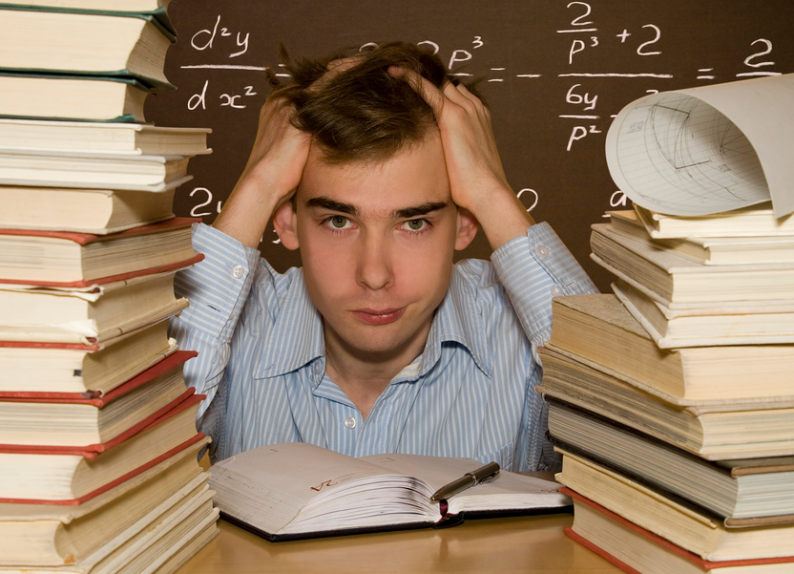
ВИДЕО
Варвара Макаревич: Приемная кампания в российских вузах начнется не позднее 20 июня. В этом году абитуриенты поступают по обновленным правилам. Новый порядок приема меняет не только процесс подачи документов, но и то, как поступающие будут конкурировать за бюджетные места.
Что изменилось для абитуриентов? Сколько бюджетных мест предусмотрено в этом году? Становится ли высшее образование более доступным? Все это обсудим сегодня в ток-шоу «ПРАВ!ДА?». Меня зовут Варвара Макаревич. И со мной в студии:
Максим Зайцев, депутат Госдумы. Убежден: количество бюджетных мест в вузах недостаточно.
Дмитрий Агранат, проректор педагогического университета. По его мнению, возможность подать документы онлайн сделала процесс приема в вузы намного удобнее.
Борис Илюхин, эксперт по качеству образования. Полагает, что введение единых правил – это нормальная ситуация.
Амет Володарский, руководитель проекта «Росвуз.рф». Считает, что популярность государственного диплома и высшего образования в целом падает.
Мы из первого видео уже узнали о каких-то ключевых нововведениях. Амет, как они отразятся на возможностях абитуриентов поступить? И есть ли что-то, что мы упустили, о чем еще не сказали? Что еще важно?
Амет Володарский: Ну, упущено еще порядка семнадцати разных…
Варвара Макаревич: Давайте ключевые какие-то.
Амет Володарский: Ну, ключевые вещи. На мой взгляд, это то, что наконец обратили внимание на то, что вуз должен иметь право самостоятельно отбирать себе абитуриентов, а не то, что кто-то, какой-то чиновник сказал: «Вот нужен такой-то абитуриент».
Варвара Макаревич: Это речь про целевой набор как раз?
Амет Володарский: Нет, это про любого абитуриента. Наконец вуз услышали. Вузу дают возможность… Понятно, это не стопроцентная академическая свобода, но это первые шажочки к этой академической свободе. Что это значит? Из лирики переходим к практике. Теперь у студента, вернее, у абитуриента есть возможность подавать, например, не на три направления или три специальности внутри одного вуза, а до десяти направлений, до десяти специальностей.
Варвара Макаревич: Хорошо. Это мы еще обсудим поподробнее, там есть любопытные вещи.
Амет Володарский: На мой взгляд, это очень важно.
Варвара Макаревич: Что еще важного? Прямо тезисно, если пройтись по пунктам.
Амет Володарский: Очень важно, что у вуза теперь есть возможность принимать ЕГЭ не только по единственному какому-то спецпредмету (например, обществознание), но и принимать еще, допустим, в этой группе направлений, например, историю. Это дает возможность абитуриенту выбрать, какой документ подавать – по обществознанию или по истории. Там, где у него лучший результат.
Варвара Макаревич: Лучший результат, естественно.
Амет Володарский: Это действительно поворот лицом к абитуриенту и к вузу. В принципе, это все говорит о том, что… На самом деле здесь нужно в корень смотреть. На мой взгляд, чиновники на это пошли из-за вынужденности, потому что сегодня государственный диплом падает… интерес к нему падает, интерес к получению высшего образованию.
Варвара Макаревич: Обсудим тоже чуть позже.
Борис, вот Амет уже сказал о том, что теперь есть возможность пойти либо с историей, либо с обществознанием, либо с математикой, не знаю, либо с физикой – ну, вы брать что-то, где у тебя лучшие результаты. На ваш взгляд, это хорошо для поступающих или не очень? Потому что здесь точки зрения разные. Вот для чего это введено? И что это дает на деле абитуриенту?
Борис Илюхин: Ну, соглашусь с Аметом, что, наверное, это попытка предоставить абитуриенту больше свобод. На самом деле ни плохого, ни хорошего в этом ничего нет, а больше, наверное, для школ проблем создаст эта возможность, потому что ни для кого не секрет, что распределение баллов по обществознанию, например, оно существенно лучше, чем распределение баллов по физике. Ну, соответственно, если один и тот же абитуриент сдает и физику, и обществознание, то баллы по обществознанию у него будут заведомо больше.
Бог с ним, с обществознанием. В основном физика пересекается с информатикой. Скорее всего (мы сейчас готовим аналитическую записку), это приведет в краткосрочной перспективе к снижению интереса абитуриентов к сдаче физики. Соответственно, падение интереса в школах. Соответственно, падение интереса…
Варвара Макаревич: То есть просто появятся предметы-фавориты, которые в дальнейшем будет проще сдать?
Борис Илюхин: Да. При этом это такой странный выбор. Информатику мы выбираем потому, что там баллы больше, условно говоря, да? То есть там легче больше набрать.
Варвара Макаревич: Логика абитуриента/выпускника как раз мне очень понятна.
Дмитрий, еще одно нововведение, что теперь можно… будет многопрофильный конкурс. То есть можно подать документы на такую укрупненную специальность (назовем это так), а потом уже внутри вуза есть какие-то десять специальностей. Не знаю, может быть, общее – менеджмент, а внутри у тебя товароведение, менеджмент и что-то еще. И дальше уже распределяется. Вот эта история увеличивает шансы абитуриента поступить или, наоборот, усложняет задачу?
Дмитрий Агранат: Вы знаете, это вообще история, которую уже вузы экспериментируют давно. То есть вузы могли набирать на направления подготовки и внутри разными профилями разбираться, студент может выбирать из разных профилей. Но на самом деле, несмотря на то, что это право дано сейчас нам, пока регулятор еще не отрегулировал дальнейший процесс обучения студента по такой схеме. То есть, видимо, это предстоит еще сделать. Наверное, будут какие-то нормативные документы подготовлены.
На самом деле это дает возможность студенту разобраться в себе и попробовать какие-то особо схожие образовательные программы, различить и прикинуть на себе. Потому что есть определенные программы, когда, если ты не попробуешь по ним учиться, ты не поймешь – твое это или не твое. Мы знаем, что особенно на первом курсе много студентов, которые… Допустим, есть студенты, которые отчисляются в силу того, что они просто не туда попали. Или просятся перевестись на другую программу. Поэтому это, безусловно, для ищущих ребят…
Варвара Макаревич: Я хочу тут уточнить…
Амет Володарский: Я хочу добавить. Здесь есть, мне кажется, некоторая неточность, которые абитуриенты могут принять за точность. Когда мы говорили о том, что у вузов раньше была такая возможность, мы просто путаем понятие «профиль» и «направление». Профиль – это то, что вуз имеет право… это то, что называлось раньше специализацией. Профиль может быть внутри одного направления или внутри одной специальности. Это такая аспектизация твоего направления на старших курсах. Действительно, допустим, абитуриент подавал документы на это направление, а профиль ты мог выбрать другой.
Варвара Макаревич: Да, но ближе к концу обучения. Но здесь другая история.
Амет Володарский: Секундочку! А сегодня абитуриенту дают возможность… Я просто приведу конкретный пример. Скажем, есть такое направление, раньше эта специальность называлась «филология». Было смежное рядом, очень схожее направление, которое вышло из филологии – лингвистика. Так вот, внимание! Законодатель предложил на филологию одни экзамены, а на лингвистику – другие экзамены. Но это настолько схожие направления! То есть там вопрос разницы в нескольких дисциплинах и в часах.
Теперь у абитуриента есть возможность подать и на филологию, и на лингвистику. На мой взгляд, это… слушайте, ну это не просто революционно, а это… Снимаю шляпу, что называется.
Дмитрий Агранат: Мы не об этом говорим.
Варвара Макаревич: Но тут ключевой вопрос…
Дмитрий Агранат: Мы не об этом говорим.
Варвара Макаревич: Коллеги, тут ключевой вопрос…
Дмитрий Агранат: Подождите.
Варвара Макаревич: А дальше? Вот подал документы абитуриент. А кто решает, на какое уже конкретно из этих направлений он в итоге попадает? У него есть возможность выбора?
Дмитрий Агранат: Я прошу прощения. Коллега не понял нашего вопроса. Всегда была возможность подать и на лингвистику, и на филологию. Просто теперь можно…
Амет Володарский: Экзамены разные, посмотрите.
Дмитрий Агранат: Подождите, вы дайте мне сказать для начала. Я сказал, что те эксперименты, которые вузы ставили – это были эксперименты в рамках известного нормативного поля, которое на тот момент действовало. По смыслу они были именно такие: чтобы студент имел право попробовать разное. Но, конечно, возможность поступить на схожие направления подготовки, на эту укрупненную группу дает возможность студенту как-то себя найти.
И в этом отношении я хочу обратить внимание, что это право вуза это делать. Так же, как… Коллеги говорят, что лицом к абитуриенту мы повернулись в плане выбора различных экзаменов, которые студент будет выбирать. Но это право вуза все-таки устанавливать. Он может установить один экзамен и не давать такого права выбора.
Для нас, допустим, для педагогов, двухпрофильный бакалавриат, который мы реализуем… А мы единственные, у кого есть такой ФГОС. Это дает возможность, например, учителю физику и учителю математики, которые поступают в такой вуз, дает возможность сдавать ему либо физику, либо математику. Это вполне логично. Но это опять же право вуза.
Но, конечно, любое право можно использовать по-разному, да? Я знаю, что уже есть вузы, мы видим на сайтах, которые устанавливают, например (я сейчас так скажу), для учителя, не знаю, русского языка весь набор этих экзаменов, которые могут выбирать абитуриенты.
Варвара Макаревич: Ну, мы сейчас уже уходим в такие прямо детали, а хочется еще широкими мазками пройтись по важным темам.
Максим, еще одно нововведение – это то, что теперь не будет третьей волны, которая была раньше. Теперь у нас есть первая, куда идут победители олимпиад, льготники, ребята, у которых есть какие-то отличительные черты, скажем так. И есть вторая волна. А третьей теперь нет. Вот это хорошо или плохо для абитуриентов? Давайте с точки зрения абитуриента рассуждать.
Максим Зайцев: Безусловно, возможно, коллеги из преподавательского сообщества меня поддержат. По сути дела, как таковой третьей волны не существовало. То есть это была такая норма, которую вроде бы вузы использовали, но по факту все видели процесс своего зачисления в самом-самом начале. Если студент готовится изначально к поступлению в конкретный вуз по конкретной специальности, то он знает, что он хочет, и он сразу это может для себя определить. То есть здесь совершенно правильно было принято решение об упрощении и о том, что теперь чуть меньше путаницы просто, с точки зрения…
Варвара Макаревич: Но был же какой-то процент ребят, которые не поступали, и у них была возможность воспользоваться этой третьей волной.
Амет Володарский: И сейчас остается.
Варвара Макаревич: Что тогда изменилось?
Амет Володарский: Сейчас будет просто не третья, четвертая, пятая, а это будет волна постоянная, потому что…
Варвара Макаревич: Просто очень большая вторая?
Амет Володарский: Просто она будет не на уровне Российской Федерации, а она будет локальная. То есть если вуз недобрал, скажем, на бюджетные места… А это, кстати, подтверждает мою информацию о том, что у людей сегодня падает интерес к государственному образованию. Так вот, появились вузы, которые недобирают на непопулярные направления, даже бюджетные. Поэтому у них будет возможность объявлять набор до 31 декабря, вернее, набирать студентов.
Дмитрий Агранат: Ну, до 15-го числа они все-таки это должны делать. Это другая история будет.
Варвара Макаревич: Борис хотел добавить.
Борис Илюхин: Можно я свои три копейки вставлю? Не добирать, наверное, а… Как сказать? Если раньше эти вузы прикрывались красивым лицом, то теперь, как говорил Петр I, дурь каждого видна будет невооруженным глазом. Соответственно, если раньше это выглядело, как: «Я не прошел в какой-то вуз и могу куда-то еще пристроиться», – то сейчас это просто официально, ну, недобор и недобор.
Хотя, с другой стороны, к сожалению, в условиях пандемии это ситуация такая сложная, потому что абитуриент зачисляется без предоставления подлинника. До сих пор Министерство науки и высшего образования не приняло решение по этому вопросу: что делать с подлинником? Это серьезный, такой очень сложный и большой вопрос. И уже даже вышли дополнения к новому порядку приема, то есть уже обновление к обновлениям.
В теории… Вот я сегодня специально готовился к передаче и спросил у некоторых коллег: «Сколько у вас на какую-то дату?» Говорят: «Ну, мы считали в апреле месяце, у нас было 80% подлинников от зачисленных первокурсников».
Варвара Макаревич: Понятно. Хочу вернуться…
Максим Зайцев: Позвольте?
Варвара Макаревич: Да, Максим.
Максим Зайцев: Все-таки тоже небольшое добавление. Для вузов, конечно, эта система выгодна.
Борис Илюхин: Да.
Максим Зайцев: Но с точки зрения государства… Ведь что такое бюджетные места? Это так называемый госзаказ. И как он сейчас формируется, в том числе по регионам? Ну, министерство достаточно серьезно только стало уделять этому внимание. По сути дела, вузы, которые получают дополнительную возможность, они просто получают дополнительное финансирование. Но если эти денежные средства, допустим, в те специальности, которые либо более востребованные, либо (за что выступает фракция ЛДПР) в которых государство нуждается… То есть у нас достаточно большой процент выпускников – юристов, менеджеров. И бюджетных мест тоже выделяется много. Как таковых в таком количестве…
Варвара Макаревич: Столько не нужно?
Максим Зайцев: …да, юристов и менеджеров сейчас в стране не нужно. Но нужны учителя те же самые, нужны…
Варвара Макаревич: Максим, чуть позже к этому вернемся, обязательно дам возможность еще сказать по этому поводу.
Амет, вы еще упомянули, что теперь поменялась эта формула 5×3, теперь 5×10: 5 вузов, 10 направлений. И некоторые эксперты высказывают точку зрения: такое ощущение, что абитуриенту важно просто лишь бы поступить в этот вуз на любое из десяти направлений. Он подается на все десять. И такое ощущение, что это не желание получить конкретную специальность, а просто желание отучиться здесь. Это не так?
Амет Володарский: Да. Во-первых, я хочу сказать, что не согласен, что кто-то должен регулировать желание человека поступить на менеджера или на экономиста. В нашей стране недостаточно менеджеров, недостаточно экономистов. И мы это видим по результатам нашей жизни. Вопрос качества образования. Это первый вопрос.
Второй вопрос – то, что касается желания ребенка, знаете, как говорится, «забронировать» место, хорошее место в будущем. Сегодня до сих пор, действительно… И это очень хорошо, что в менталитете нашего общества образование стоит на первых… Образование, семья, здоровье, отношение к детям у нас находится в первых позициях.
Варвара Макаревич: Под образованием имеете в виду именно высшее образование в частности?
Амет Володарский: Так вот, действительно, сегодня детям очень важно, несмотря на то, пойдет он в армию, не пойдет… Действительно, сейчас очень многие люди говорят: «Да ладно, отслужу один год». Не это является мотивацией. Действительно, люди хотят получить образование.
А теперь вопрос: какое? И тут мы можем к этому вернуться. Я очень надеюсь, что сегодняшние преобразования в новом Министерстве образования и науки приведут в будущем к появлению в вузах новых стандартов, то есть дадут возможность высшим учебным заведениям работать по собственным образовательным стандартам. А сегодня только узкий круг вузов…
Варвара Макаревич: Амет, я тут уточню одну вещь. То есть эта логика с поступлением на десять направлений – идея в том, что абитуриент просто точно знает, что вот в этом месте качественное образование, он хочет получить его там, и неважно, по какой специальности?
Амет Володарский: Нет, я думаю, что это одна из причин вот такого расширения. Во-первых, потому что вузы действительно многие годы об этом просили. А второе – это то, что, еще раз говорю, популярность высшего образования падает, и нужно просто вернуть людей в вузы, чтобы эти вузы не закрывались.
Варвара Макаревич: Хорошо. Коллеги, давайте чуть двигаться вперед. Сейчас хочу, чтобы мы посмотрели мнение еще одного эксперта. Поговорим немножко о последствиях дистанционки.
ВИДЕО
Варвара Макаревич: Дмитрий, на ваш взгляд, как-то снизился уровень абитуриентов?
Дмитрий Агранат: Вы знаете, если применительно к приемной кампании, когда мы начали принимать документы дистанционно, на мой взгляд, это позволяет абитуриенту… Ну, во-первых, это удобнее, не надо ехать и все такое прочее.
Варвара Макаревич: Нет, принять документы дистанционно – да. Речь о том, что дети-выпускники учились длительное время онлайн. Качество образования могло упасть. Соответственно, падает уровень абитуриентов. Или нет такой связки? Борис, сейчас дам возможность высказаться.
Дмитрий Агранат: Понимаете, связывать уровень абитуриентов и дистант, в который мы все попали, мне кажется, нельзя, потому что абитуриенты поступали в вуз. И вообще никто не знал, что будет пандемия.
Варвара Макаревич: Ну да, как-то мы не готовились.
Дмитрий Агранат: Вообще никто не знал. Понимаете, чтобы делать такие выводы, надо, наверное, поучиться лет пять на дистанте, сравнить одно с другим, показать какие-то цифры, замерить образовательные результаты и все такое прочее.
Варвара Макаревич: Поняла, хорошо, вашу точку зрения поняла.
Борис, вы согласитесь или поспорите?
Борис Илюхин: Я поддержу с дополнениями, скажем так.
Варвара Макаревич: Давайте.
Борис Илюхин: Потому что на приемную кампанию прошлого года эта история почти не повлияла, дети уже на выходе были, они уже готовились. Кто хотел, тот уже заканчивал. Кто не хотел, тому уже было ничем не помочь.
А вот в этом году будет немножко похуже, потому что… Но все равно вот эта мотивация, кто куда хотел поступать, они уже свой выбор сделал, по крайней мере к этому готовились.
Проблемная ситуация, по моим представлениям, будет через два года, когда восьмиклассники прошлого года, которые попали в пандемию, а сейчас девятый класс, они сейчас сдают основной государственный экзамен, тоже такая лайт-версия, чтобы сдали и вышли, – вот это «потерянные» дети, которые два года очень… Кто-то учился, кто-то не учился.
Варвара Макаревич: То есть встретимся через пару лет и посмотрим тогда на результаты?
Амет Володарский: Коллеги, я вообще не согласен.
Варвара Макаревич: Амет, только, пожалуйста, коротко.
Амет Володарский: Вот мое поколение тоже называли «потерянное», «перестроечное поколение». Нельзя так говорить! Что такое образование, как говорили великие люди? Это то, что у тебя осталось после того, когда ты забыл то, чему тебя учили. Вот это – образование.
Слушайте, если есть возможность получить те знания, которые ты сможешь потом использовать для достижения цели, через дистанционное образование или через face to face Марьи Ивановны – какая разница, как ты его получил?
Вопрос в чем? Твоя задача сдать ЕГЭ, как коллеги говорят? Я считаю, что… Вот у меня четверо детей. Я их не натаскиваю на ЕГЭ, я говорю: «Мне все равно, как вы сдадите ЕГЭ. Мне важно, чтобы вы ту информацию, которую вы получили, умели обобщать, умели использовать для достижения своих целей».
Варвара Макаревич: Амет, у вас такой подход, а очень многим важно сдать ЕГЭ и поступить на бюджетные места.
Борис Илюхин: Амет, вы хороший родитель.
Варвара Макаревич: Коллеги, давайте обсудим далее, достаточно ли бюджетных мест в России. Не переключайтесь.
У нас есть еще один видеосюжет, давайте его посмотрим.
ВИДЕО
Варвара Макаревич: Прозвучала цифра об увеличении бюджетных мест на 10% по сравнению с прошлым годом. Я видела цифру – 9%.
Максим, вот смотрите, сейчас такая позиция: минимум половина школьников-выпускников должны быть обеспечены бюджетными местами. Этого достаточно? Может быть, на чуть более широкую цифру нужно замахиваться, чтобы был охват?
Максим Зайцев: Сейчас есть определенная формула, заложенная в федеральном законе, по которой высчитывается, какое количество бюджетных мест. Из этой формулы мы постоянно как бы… ну, Правительство само может ее корректировать в ту или иную сторону, поскольку, как я сказал, это госзаказ, и это правильно.
По поводу того, что многие переезжали в Москву – я здесь полностью согласен. Но сейчас из маленьких населенных пунктов все переезжают все равно в большие агломерации, все равно в большие города переезжают. Конечно, мы давно выступали за эту норму. И спасибо Правительству, они ее приняли.
Проблема основная в чем? Здесь уже было сказано, что выпускники, готовясь к поступлению в вуз, идут по пути натаскивания на единый государственный экзамен, совершенно не работая над школьной программой. Ну, это разные вещи. И дистант здесь тоже не играет, по сути дела, никакой роли. Те, кто хотел поступить в конкретный вуз, готовился к конкретному единому государственному экзамену с преподавателями в очном формате. И зачастую эта подготовка стоит как два года обучения в одном из ведущих вузов.
Именно по этой причине решение Правительства о размывании бюджетных мест, о сокращении бюджетных мест в крупных агломерациях (Москва, Санкт-Петербург) и передачи регионам, конечно, мы поддерживаем. Там и мест в общежитиях больше, и гораздо дешевле проживание. Ведь у нас так и не подняли стипендии.
Варвара Макаревич: Но в целом вам кажется, что количество бюджетных мест сегодня достаточно, чтобы только на половину выпускников хватало?
Максим Зайцев: Нет. Однозначно нет. Сегодняшнее количество бюджетных мест – остро недостаточное. У нас есть ряд законопроектов, которые предлагают повысить бюджетные места.
Но вопрос… И здесь коллеги говорили в течение передачи об этом. Мы стали разделять высшее образование и среднее образование. Правительство, Михаил Мишустин дал понять, что нам нужно популяризировать простые специальности, нам надо популяризировать монтажников, нам надо популяризировать токарей…
Варвара Макаревич: Тема про среднее специальное образование – это все-таки отдельная тема. Амет, дам сейчас слово, секунду.
Дмитрий, вот прозвучала мысль, что подготовка к ЕГЭ – это одно, а школьная программа – это совершенно другое. И об этом очень часто многие учителя говорят. А почему так произошло? И нормально ли это?
Борис Илюхин: Да не правда все это…
Варвара Макаревич: Вот Борис считает, что это неправда.
Дмитрий Агранат: Вы знаете, все зависит, наверное, от качества работы учителей в школе и от того, что они делают с детьми на уроках. В этом отношении, допустим, если ребенок не видит никакой отдачи на этом уроке, то, конечно, он будет разделять подготовку на школьном предмете и подготовку к ЕГЭ. И, конечно, не секрет, что такое происходит.
Но есть и другие случаи, когда школьники (и я много таких случаев знаю в Москве) без всяких репетиторов действительно сдают на высокие баллы ЕГЭ – те школьные предметы, которые они выбирают. Я думаю, что это связано именно с работой учителей, с организацией этого процесса в школе и вообще с региональной системой образования, которая предъявляет определенные требования к школам: что будет на выходе, какие результаты они будут давать. Поэтому мне кажется, что от этих факторов зависит.
Максим Зайцев: Можно? Когда все-таки мы берем прекрасный город Москву, мы понимаем, что средняя заработная плата учителя в городе Москве – это 80–100 тысяч рублей. И лучшие учителя из регионов с удовольствием приезжают в Москву, и они будут здесь преподавать, в московских школах.
Варвара Макаревич: Но при этом, наверное, не стоит забывать про загруженность учителей и то, насколько они заняты отчетностью и так далее.
Максим Зайцев: А когда мы едем по регионам, конечно, когда учитель получает 10 тысяч рублей… И мы прекрасно понимаем, что в педагогические вузы, в том числе в этих регионах, идут по остаточному принципу, поскольку никуда больше не поступил, – естественно, соответствующий подход. Но если есть желание подготовиться к единому государственному экзамену, я повторяю, то это, к сожалению, на данный момент только репетиторы.
Амет Володарский: А не только поэтому уезжают. Мы же уже несколько передач по этому поводу проводили. Не только поэтому педагоги и молодежь уезжает из регионов. За десять лет работы Рособрнадзора закрыто около 1,5 тысячи вузов и филиалов в регионах.
Варвара Макаревич: То есть негде учиться, и поэтому уезжают?
Амет Володарский: Конечно! Это были точки…
Борис Илюхин: Это были платные вузы.
Амет Володарский: Да не только платные, а и государственные. Ну слушайте, мы занимаемся этой проблематикой. Какая разница – платный/не платный? Сегодня самые платные вузы – это государственные вузы. Кстати, один из вопросов, который мы сейчас будем обсуждать: сегодня дают возможность государственным вузам не иметь лимита по платникам. То есть это говорит о чем? О том, что государственные вузы могут иметь до 100% платного обучения. Поэтому…
Варвара Макаревич: У Бориса сейчас будет возможность поспорить со всеми тезисами. Борис, даю вам слово, потому что уже вижу, что много с чем не согласны.
Борис Илюхин: Просто по кругу прошли. Начали с одной проблемы, закончили другой проблемой.
Варвара Макаревич: Вы можете поспорить со всеми.
Борис Илюхин: Во-первых, я поддержу Дмитрия в том, что ЕГЭ и школьная программа – это вещи соотносимые. Нет ничего такого в едином государственном экзамене, чего бы не было в школьной программе, совершенно точно. Другой вопрос – качество преподавания. И есть масса детей…
Кстати, мы в стране ушли от системы вступительных испытаний в вузе, потому что случился нонсенс: математика в одном вузе – это одна математика, а математика в другом вузе – это другая математика. И так далее, и так далее. Поэтому, с этой точки зрения, так сказать, введение единых правил, по крайней мере школьная программа, которая соответствует измерителю, – ну, это нормальная штатная ситуация.
Другой вопрос у нас с перекосом, который в стране существует между выбором абитуриентов, вернее, между выбором школьников. У нас примерно 20% школьников сдают физику (и эта доля снижается), а больше половины сдают обществознание (эта доля медленнее снижается).
А вот с бюджетными местами картинками прямо противоположная. Соответственно, мы тут проводили исследование, в результате которого было показано, что количество бюджетных мест в вузах, на которые нужно принести результаты экзамена по физике, примерно соответствует числу сдающих эту физику, а вот с обществознанием – с точностью до наоборот.
То есть количество детей, которые, идя в десятый класс на гуманитарные профили и выбирая при этом заведомо обществознание, они за два года ставят себя в ситуацию, когда только менее 20% из них поступят на бюджет заведомо, а оставшиеся 80% либо пойдут в организации среднего профтехобразования на те самые рабочие профессии, которые надо популяризировать, либо будут искать деньги для продолжения обучения.
Поэтому вот это платное образование, платное высшее образование, оно в основном у нас, если посмотреть по структуре приема, оно в основном как раз на гуманитарные специальности.
Варвара Макаревич: Поняла, хорошо.
Амет, цифры, которые вы хотели показать.
Амет Володарский: Я хотел бы вернуться к цифрам.
Варвара Макаревич: Если можно, коротко.
Амет Володарский: Понимаете, есть некое жонглирование статистическими данными.
Варвара Макаревич: Со статистикой всегда так.
Амет Володарский: Я сейчас услышал, что вот на 10% подняли. Это хорошо. Хорошо, что не упустили. Но подняли и вернулись к 2016 году.
Смотрите. Количество бюджетных мест в 2016 году – 575 тысяч. При этом выпускников – 625 тысяч. Внимание! Сейчас, на 2021 год: выпускников – уже 755 тысяч, а бюджетных мест – 576. Что подняли? Как подняли?
При этом хочу сказать, что в 2018 году было 597 тысяч бюджетных мест, то есть даже выше, чем сегодня.
Варвара Макаревич: Все зависит от того, с чем сравнивать.
Амет Володарский: Но уже хорошо, что траектория интересная.
Но я хотел бы все-таки акцентировать внимание на том, что сегодня государственные вузы, к сожалению, выбили право иметь неограниченное количество платных мест. Я считаю, что это приведет к дестабилизации социальной, потому что… Я сейчас объясню – почему. Потому что эти люди – платные студенты – занимают места в аудиториях, занимают места в лабораториях и так далее, и так далее. Дайте возможность, допустим, 30–40% платников, хорошо. Все остальное…
Варвара Макаревич: Амет, идею поняла. Нужно как-то все-таки ограничивать.
Амет Володарский: Можно я закончу? Просто мысль будет незаконченная.
Варвара Макаревич: Да.
Амет Володарский: А остальное платное образование, если вы хотите, чтобы оно было, отдайте частным высшим учебным заведениям.
Варвара Макаревич: Коллеги, я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели еще один видеосюжет, поскольку все-таки высшее образование – это не что-то существующее в вакууме, а люди получают образование, чтобы потом найти работу. Вот давайте посмотрим еще один видеосюжет.
ВИДЕО
Амет Володарский: Помните борьбу с филиалами? Вот вам результат борьбы с филиалами.
Варвара Макаревич: Вот такое есть мнение. Максим, я тут к вам хочу обратиться, о судьбе страны все-таки речь. Получается из этих слов, что абитуриенты пытаются поступить туда, куда они просто могут, а не туда, куда они мечтают. Глобально для экономики страны какие-то последствия от этого есть?
Максим Зайцев: Увы, это так. И здесь у нас получается двойная система оплаты со стороны государства. То есть ребята из деревень, из дальних населенных пунктов, в том числе благодаря тому же самому единому госэкзамену… Как совершенно правильно было замечено, раньше у каждого вуза была своя физика при поступлении. А теперь мы прекрасно знаем, что…
Варвара Макаревич: …физика едина.
Максим Зайцев: …в каждой школе своя история, как оказалось. И это было, в том числе для многих чиновников, ну, таким небольшим открытием. Естественно, если смотреть именно с точки зрения государства, то нам нужно людей привязывать к местам. Допустим, учитель сельский…
Варвара Макаревич: А это можно как-то сделать?
Максим Зайцев: У нас есть много программ. Есть программа «Сельский педагог», ну, «Сельский учитель», есть программа.
Борис Илюхин: Целевой прием.
Варвара Макаревич: Сейчас дам вам слово.
Максим Зайцев: То есть мы, допустим, берем из глубинки, обучаем его в Москве. Соответственно, государство на это тратит определенные финансовые средства. После этого начинают обратно направлять в глубинку, тоже готовя и финансируя различные программы. Есть, конечно, целевики, я с вами согласен, но здесь…
Варвара Макаревич: А почему нужны эти программы? Я прошу прощения, Максим. То есть человек отучился в Москве, и он уже не хочет обратно к себе в глубинку? Поэтому его нужно как-то дополнительно привлекать?
Максим Зайцев: Он уже здесь привык, он уже здесь привык, конечно. В глубинку сейчас никто не едет. Сейчас именно оттуда пытаются уехать либо в крупные города в областях, в краях, либо снова же в город Москву или в город Санкт-Петербург. И государство всеми возможными способами сейчас пытается вернуть людей на землю, людей вернуть в деревню, чтобы развивалась наша деревня.
Варвара Макаревич: Дмитрий хотел с вами поспорить, что это не нужно делать.
Максим Зайцев: Это принципиально. Мне нравится слово «привязывать». Никого не привяжешь. Ну, послали вы его по целевому приему в город Москву. Он увидел, что здесь платят больше. Уехал в этот регион, отработал там по контракту свое необходимое количество лет (правда, если работодатель не нарушил этот контракт), а потом уехал в эту Москву.
Борис Илюхин: Вернулся.
Варвара Макаревич: Ну подождите. За то время, пока он работает, может быть, он уже оброс семьей, какие-то связи. Тогда больше шансов, что он останется. Нет?
Дмитрий Агранат: Тем более. Тем более. Он взял и уехал. Он еще и опыт получил, и продал себя в Москве еще дороже.
В этом отношении ничего плохого в конкуренции за абитуриента в регионе, между регионами нет. Ну, например, у нас за некоторых педагогов, за ряд педагогов конкурируют банки. Мы говорим: «Хорошо, здорово! Пусть он идет работать в банк, если его компетенции, которые он приобрел в педагогическом образовании, там полезны». Но зато школа начинает думать: «А как мне привлечь лучших абитуриентов к себе?»
Так же и регион. Если регион не работает в плане заработной платы, условий труда молодого специалиста, то он его никогда не привяжет. Ну, он привяжет на короткий период, а он потом уедет оттуда. Что и происходит.
Амет Володарский: Насчет конкуренции я согласен. Но мне кажется, что это шизофрения – конкурировать с самим собой. Объясню – почему. Еще раз вернусь к вопросу о том, что 1,5 тысячи вузов и филиалов были закрыты в регионах. Это национальная проблема. Я общаюсь с губернаторами, и они прекрасно понимают, что эти филиалы и эти вузы (это про ту конкуренцию, о которой вы говорите) – это же то, с кем можно было бы конкурировать. А их сегодня нет. Это были точки притяжения в регионе. И что говорит губернатор? «Если Рособрнадзор хотел повысить качество, то давайте повышать качество вместе, а не закрывать и убивать вуз».
Вот сегодня, мне кажется, наконец мы начинаем понимать, что нужно возвращать филиалы в вузы.
Дмитрий Агранат: Да ничего это не решит. Все равно будут уезжать из регионов.
Варвара Макаревич: Борис, а вы согласитесь, что этих точек притяжения в регионах стало меньше, и поэтому выпускники/абитуриенты едут в большие города, в столицы, чтобы поступать? И нужно ли это менять? Или это классно, нас все устраивает?
Борис Илюхин: И во всех странах, и у нас, и во все времена люди ехали в центральные, столичные города. То есть кто более высоко подготовлен… Ну, это очевидный процесс, да? Вот я как родитель могу сказать: да, я, конечно, хочу, чтобы мой ребенок был успешен. А дальше – всем по мере, так сказать, образовательных результатов. Если есть образовательные результаты и потенциал, которые позволяют учиться в МГУ… Ну а как? Гвоздиками, что ли, его к стулу прибьешь, что ли?
Варвара Макаревич: Но в МГУ сможет ли учиться полстраны и потом остаться?
Борис Илюхин: Если человек может выдержать этот конкурс и способен там учиться, то…
Варвара Макаревич: Я скорее с экономической точки зрения и градообразующей сейчас спрашиваю.
Борис Илюхин: Раздувать МГУ бесконечно – это бессмысленно, наверное, потому что МГУ в конечном итоге работает… Да, мы хотим, чтобы население, чтобы каждый гражданин был более образован. Но, к сожалению, нельзя…
Амет Володарский: Ну слушайте, вот никакой критики, честно. Я хочу сказать, что вот такой маленький городишко – Кембридж. Вот такой маленький! Но почему-то люди, которые там живут, они не уезжают поступать в Лондон или куда-то в Оксфорд, а они стараются поступить здесь.
Или мы говорим (не к ночи будет сказано) о США. У них там есть такой Бостон, а под Бостоном есть тоже маленький город, тоже называется Кембридж (ну понятно – почему). Так вот, почему-то из Бостона люди в редких случаях едут поступать в Мичиганский технологический университет только по принципу привязанности к этому вузу, потому что там есть такое направление.
Варвара Макаревич: Но они и работать потом едут в другие места. Разве нет?
Амет Володарский: Ну да. У них есть такая система: часть жизни – в одном штате, часть жизни – в другом и так далее. Я к чему это говорю? Вузы, в том числе частные, государственные… Нет такого четкого разделения. Есть понятие: хорошие вузы и не очень хорошие вузы, допустим. Плохие вузы не выживают, но есть правильное распределение по стране.
Так вот, я о чем говорю? Нужно вернуть филиалы санкт-петербургских, московских, казанских, да любых хороших вузов. Почему в Москве не может открыться филиал казанского вуза? Я знаю несколько великолепных казанских вузов…
Варвара Макаревич: То есть делать кампусы в разных городах? Вот такое модно слово использую.
Амет Володарский: Конечно! И это будут первые точки притяжения. Дальше это и научно-исследовательские институты, и стартапы, мастерские…
Варвара Макаревич: Мысль понятна, да.
Коллеги, у нас, к сожалению, время подошло к концу. И я, наверное, сейчас хочу обратиться, самое главное, к абитуриентам. Куда бы вы ни поступали, какой бы вуз ни был, удачи! И хорошо вам сдать экзамены. Это, наверное, самое главное для вас в этом году.
Мы не все успел и обсудить, к этой теме обязательно еще когда-нибудь вернемся. И всем нашим зрителям хочу напомнить, что мы есть в социальных сетях – в Instagram и в TikTok. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и обсуждайте все важные темы вместе с нами. Увидимся совсем скоро на Общественном телевидении России.