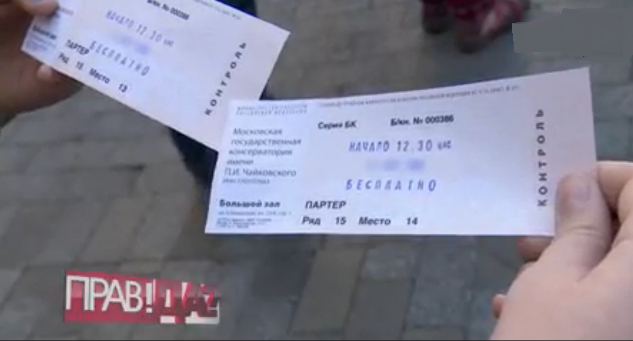Российский филантроп: портрет на фоне
https://otr-online.ru/programmy/prav-da/rossiyskiy-filantrop-portret-na-fone-41154.html 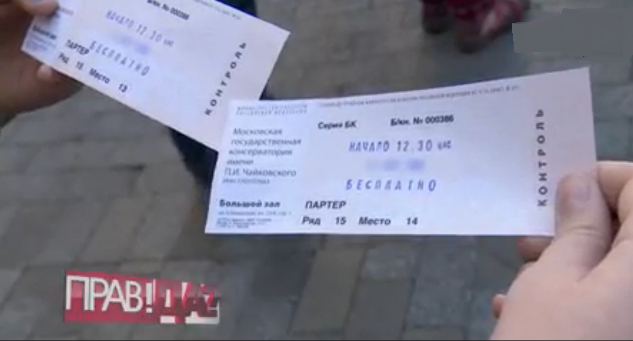
«Истинная цель дела благотворительности
не в том, чтобы благотворить, а в том,
чтобы некому было благотворить».
Василий Ключевский
Анастасия Урнова: Здравствуйте! Вы смотрите Общественное телевидение России. Это программа «ПРАВ!ДА?». Меня зовут Анастасия Урнова. И вот о чем поговорим сегодня:
По данным исследования «Российский филантроп», проведенного «Сколково» совместно с банком UBS, более 90% крупных бизнесменов за прошедший год принимали участие в тех или иных проектах, а 45% пожертвований носят запланированный характер. Средние траты на благотворительность превысили 3 миллиона рублей в год, однако общий масштаб помощи эксперты называют очень низким – менее 1% личного состояния. Какие причины приводят богатых людей к филантропии? Если добился успеха в бизнесе, то нужно попробовать социальную сферу? Почему крупные бизнесмены занимаются коллекционированием, открывают музеи и галереи, поддерживают значимые учреждения культуры? Это желание остаться в истории или кому-то тема важна по личным причинам?
Анастасия Урнова: Российская благотворительность зародилась в начале 90-х, когда после развала большой страны перестали работать социальные институты. Вскоре крупные бизнесмены стали филантропами. А в середине 2000-х у многих представителей списка Forbes уже были собственные благотворительные проекты.
Андрей, вот по вашим оценкам, сколько сейчас в принципе в благотворительность вкладывается со стороны государства, бизнесменов, корпоративных благотворителей, корпоративных компаний?
Андрей Шпак: Ну, я бы не включал сюда государство, потому что все-таки есть определенный набор традиционных государственных социальных расходов. С точки зрения оценки того, какой размер средств тратится на благотворительность, то здесь мы можем только по неким косвенным факторам судить. Есть оценки, которые делали по массовой благотворительности наши коллеги из CAF. Там оценки, что именно массовая благотворительность – это порядка 160 миллиардов рублей.
Дальше, соответственно, отдельно те деньги, которые тратят крупные частные благотворители – это, по нашим оценкам, от 40 до 80 миллиардов. То есть, вроде бы, казалось, их немного, но при этом за счет того, что каждый тратит достаточно много индивидуально, получается большая сумма.
Ну и на круг опять же, если мы посмотрим, сколько денег тратят компании, если мы просто возьмем крупные 30–40 компаний, то это выйдет тоже сумма больше 100 миллиардов рублей. Здесь, конечно, нужно с большой осторожностью относиться к этим суммам, к этим оценкам. Почему? Просто потому, что, учитывая, что у нас большая доля бизнеса крупного окологосударственная или государственная, поэтому там очень сложно бывает разделить когда расходы являются собственно благотворительностью или…
Анастасия Урнова: То есть сложная методология.
Андрей Шпак: …или государство перекладывает, соответственно, просто часть своих расходов.
Анастасия Урнова: Я видела цифру, что на круг это получается порядка 400 миллиардов рублей в год.
Андрей Шпак: Ну, где-то так, да.
Анастасия Урнова: Мария, давайте пока поговорим в первую очередь про крупных частных доноров. Я знаю, что благотворительность среди миллиардеров – это сегодня уже такой мировой тренд. Вот в России с этим как?
Мария Черток: Вы знаете, в России, конечно, наши олигархи, наши богатые люди тратят деньги на благотворительность, но я бы сказала, что за последние 10–15 лет могло бы быть гораздо больше прогресса в этой области, учитывая скорость накопления и концентрации капиталов в руках отдельных людей.
В общем, даже те из них, кто имеют благотворительные фонд, и можно понять, сколько они тратят на благотворительность, что далеко не типично, в общем-то, для списка Forbes, условно, 200 самых богатых людей, – даже у них процент того, что они тратят от их состояний, очень и очень невелик. То есть это все меньше 1%.
Конечно, могло бы быть больше. Могло бы быть больше фондов, которые работают понятно и прозрачно. И эти фонды могли бы быть гораздо больше, учитывая размеры состояний их учредителей.
Анастасия Урнова: Татьяна, вот мы говорим про 1%. Вы согласны с тем, что это довольно мало? С другой стороны, все-таки это 1% от колоссальных сумм. Может быть, получается довольно серьезно. Либо это вообще погрешность учета, а на самом деле люди вкладывают больше?
Татьяна Задирако: Я хотела бы сказать следующее. В общем-то, понятие цифр – оно относительное. С чем мы можем сравнивать нашу ситуацию? Например, если мы сравним ситуацию с Giving Pledge в Америке или с тем, сколько дают богатые люди…
Анастасия Урнова: Надо, наверное, пояснить, что Giving Pledge – это Клятва дарения.
Татьяна Задирако: Да, по-русски это называется Клятва дарения.
Анастасия Урнова: Да, по-русски это Клятва дарения. Ну, мы обязательно подробнее расскажем, что это.
Татьяна Задирако: Смотрите. Какой происходит? В общем-то, это 2–4%. Не 24%. Поэтому Россия отстает, да. Но сильно ли она отстает или не сильно? Вот давайте сравнивать в этой парадигме. А потом, мы должны понимать, что ситуация очень сильно зависит от страны и от степени развития, как давно занимается общество, люди, граждане, богатые люди, богатые граждане страны филантропической деятельностью. Поэтому у нас все развивается динамично.
Разумеется, я поддержу и скажу: конечно, нам бы хотелось, чтобы это было…
Анастасия Урнова: …больше и лучше.
Татьяна Задирако: Но мы находимся в той парадигме, в которой мы находимся. Если сравнивать с другими странами, то парадигма нам говорит о том, что это может быть в два раза лучше или в четыре раза лучше – во всем, что касается финансовых показателей.
Анастасия Урнова: Илья, а почему пока что у нас всего 1% личного состояния отправляется на благотворительность? Что вообще мотивирует богатых людей отдавать свои кровно заработанные?
Илья Зибарев: Я думаю, что наши богатые люди вообще редко говорят о своих богатствах, поэтому и 1%. Они, может быть, публично об этом говорят. А сколько они на самом деле дают – я не знаю. Я думаю, может быть, и больше дают. Но глобально, конечно, культуры нет. В основном самые богатые люди – это люди с бэкграундом 90-х. Тут другой менталитет.
И я могу рассказать пример. Например, почему они усадьбы, их не восстанавливают, а покупают дома в Испании? Не потому, что они плохие или к нашему наследию относятся плохо. Просто у них другая парадигма мышления. Им не интересно. И я думаю, что благотворительность – это, во-первых, желание в обществе инвестировать, что-то отдавать. И она формируется не сразу. В том числе она формируется, исходя из той культуры общения, где они общаются. Поэтому чем больше примеров и чем громче богатые люди говорят: «Я инвестирую в социальную какую-то среду. Я благотворитель. Я говорю, сколько денег я жертвую», – это хороший пример для других, чтобы они слушали, следовали и об этом общались.
Я могу сказать, что на самом деле движение большое. Вот приведу отдельный пример. Совершенно недавно ко мне обратился такой известный наш человек, топ-менеджер очень крупной компании. Он говорит: «Слушай, Илья, помоги мне сформировать какую-то стратегию по благотворительности». Я говорю: «А почему это вдруг? Ты не про это, насколько я знаю. Ты активный коммерсант, все делаешь». Он говорит: «Я общаюсь с такими-то людьми, как я, с такими-то, с такими-то. У всех есть».
Анастасия Урнова: «А у меня нет».
Илья Зибарев: «А у меня нет».
Анастасия Урнова: То есть это становится хорошим тоном?
Илья Зибарев: Ну, как бы да. «Мы уже про машины поговорили». Уже надо быть в этой компании.
Анастасия Урнова: Екатерина, интересно, а когда вообще люди узнают о том, что какой-то частный донор делает большие пожертвования – это скорее к нему располагает, вызывает агрессию? Потому что так-то кажется, что это прекрасный способ снять недовольство тем, что у нас есть супербогатые люди.
Екатерина Богомолова: У фонда «Общественное мнение» были исследования по части благотворительности компаний. Зачастую крупный благотворитель – он владелец какой-либо компании, поэтому мы спрашивали про компании. Вопрос звучал таким образом – нужно было выбрать точку зрения: либо это пиар-кампания, работа над репутацией, либо это благое дело, альтруистический мотив. Люди примерно пополам делятся. То есть около 10% людей затрудняются с ответом, а 40–45% отвечают в равной степени на этот вопрос. Поэтому мнения полярные.
Если говорить о мотивах, о чем мы уже начали говорить, то они же могут быть множественными.
Анастасия Урнова: Конечно.
Екатерина Богомолова: Нельзя сказать, что кто-то придерживается одного мотива.
Анастасия Урнова: А что здесь в палитре? Что людей мотивирует это делать?
Екатерина Богомолова: Ну, могут быть как альтруистическими (желание сделать доброе дело), так и исходить из каких-то личных интересов или личного опыта решения какой-то проблемы. Почувствовать себя хорошим человеком. Собственная репутация, если это значимая фигура. Мотивов может быть действительно очень много.
Анастасия Урнова: Много. Матвей, ну а почему тогда богатые люди все-таки скорее скрывают свою деятельность, нежели открыто о ней рассказывают?
Матвей Масальцев: Ну, сложно это оценить, потому что те, кто скрывают… мы просто не знаем, что они скрывают. А о тех, что не скрывают, мы о них что-то знаем. Да, действительно, принято считать, что в России большинство людей, значительное количество людей эту деятельность скрывают. Я думаю, это опять же что-то такое в культурном коде, отсутствие культуры, рассказы о своих добрых делах.
Над чем работает благотворительный сектор сейчас? Над публичностью. И пока до конца еще не победило это представление. Действительно, есть неоднозначный отклик со стороны публики, о котором только что сказали. Не все воспринимают благотворительность так, как хотел бы человек жертвующий, чтобы его воспринимали. Я думаю, не всегда приятно слышать в ответ на какие-то благие дела, что…
Анастасия Урнова: Ну смотрите. С другой стороны, я посмотрела, насколько активно участвуют в благотворительности наши отечественные миллиардеры. Я приведу цифры. Я просто думаю, что для многих, в том числе зрителей, это может быть новостью.
Например, тот же Алишер Усманов в 2014 году пожертвовал 194 миллиона долларов. В 2016 году он вошел в ТОП-200 крупнейших меценатов мира, он пожертвовал на благотворительность почти 106 миллионов фунтов. В общем-то, это очень серьезные деньги. Фонд Аркадия Ротенберга в 2018 году потратил более 100 миллионов рублей. Фонды Елены и Геннадия Тимченко жертвуют в 2017 году 845 миллионов рублей.
В общем, деньги колоссальные! Казалось бы, войдешь же в историю с этим. Мария, а почему же это не педалируется? А то мы все знаем «Лайк, шер, Алишер!», а то, что он огромный меценат – нет.
Мария Черток: Я думаю, что те люди, которых вы назвали… В особенности я могу сказать про фонд Тимченко и фонд Усманова. Они сформировались уже приличное количество лет назад профессиональные структуры, фонды, в которых работают команды людей, там есть стратегия, там есть направления, по которым они работают. И когда появляется вот такая системная деятельность, то возникает и соответствующий коммуникационный след, и репутация таким образом прирастает.
Анастасия Урнова: Но это активные фонды, они коммуницируют с вами? С другими фондами, может быть, они сотрудничают?
Мария Черток: Ну, по-разному. Вот про фонд Ротенберга я, честно говоря, сейчас слышу первый раз. Очень интересно посмотреть, чем он занимается. Что касается…
Анастасия Урнова: Привлекли внимание.
Мария Черток: Да. Что касается фонда Тимченко, то это очень известный в сообществе фонд, один из наиболее системных, продвинутых, с действительно большим бюджетом. В прошлом году он был, если я не ошибаюсь, первым в рейтинге лучших частных фондов Forbes. В общем, про него очень много всего понятно.
Фонд Усманова – тоже очень значительный по объему фонд. И тоже, в общем, стремится быть частью сообщества, вести диалог и так далее.
Анастасия Урнова: Да, пожалуйста.
Татьяна Задирако: На минуточку, в прошлом году, по-моему, Тимченко уже отметил 10 лет своего существования. Понимаете, время бежит так быстро реально! Они начинали с фонда «Ладога». У нас за это время поменялись стратегии, подходы, направления деятельности. Они поменяли название, они стали семейным фондом и так далее. Но 10 лет – это очень большой, серьезный период времени.
Анастасия Урнова: То есть это стабильная компания.
Татьяна Задирако: Это абсолютно стабильная и устойчивая финансовая институция, которая занимается благотворительной деятельностью.
Анастасия Урнова: Пока мы говорим о том, почему богатые люди занимаются благотворительностью. Давайте немножко послушаем из первых уст. Мы покажем вам фрагменты интервью селебрити и бизнесменов. Что же они для себя нашли в этой деятельности?
СЮЖЕТ
Анастасия Урнова: Давайте еще несколько слов про клуб очень богатых людей. Андрей, мне стало очень интересно то, что говорит Потанин – то, что он не хочет оставлять своим детям слишком много денег, чтобы как-то им жилось легче и давление на них было не такое большое. В том числе он давал Клятву дарения. Можете вы поподробнее рассказать? Мы сегодня уже касались этой темы. Что это такое? И кто в России вообще этим занимается?
Андрей Шпак: Ну смотрите. Клятва дарения – это некое обещание того, что вы свое состояние передадите на благотворительность.
Анастасия Урнова: При этом у вас должно быть больше миллиарда рублей… долларов.
Андрей Шпак: Достаточно много. Опять же в России Потанин – более публичное лицо, которое это сделало. Опять же здесь тоже надо понимать, что это все-таки обещание, а не то что он сейчас уже все передал. Понятно, есть люди, например, типа того же Уоррена Баффетта, где это все зафиксировано физически на бумаге, соответственно. И он каждый год в зависимости от того, что… Он это делает в партнерстве с Биллом Гейтсом. В зависимости от тех данных, которые он получает от фонда Гейтса, эти деньги переводит.
Здесь сам по себе формат, с моей точки зрения, не настолько важен. Здесь скорее важно то, какой эффект мы получаем. Например, вы приводили цифры, что-то тот потратил столько-то миллионов, а этот – столько-то миллионов. С моей точки зрения, одна из ключевых проблем в российском филантропическом секторе в том, что все действуют в одиночку.
Да, мы можем говорить, что тех-то дал миллиард рублей, условно говоря. Но, например, расходы на пенсии в стране – 8 триллионов. То есть на фоне… Очень часто происходит некий такой диссонанс между тем, что… Да, человек ощущает себя супербогатым, вроде бы кажется, что он может и хочет решить какие-то глобальные проблемы. Но опять же Мария и коллеги говорили, что 1% от состояния. Это вроде бы мало.
С финансовой точки зрения, это совершенно не мало. Почему? С точки зрения даже теории капитала, если у тебя есть состояние, то, чтобы ты это состояние не проел за 10–15 лет, ты можешь реально тратить от этой суммы, от капитала 3–4%. То есть ты физически… Даже если ты миллиардер – это значит, что ты можешь потратить, в принципе, 30 миллионов долларов. Это 2 миллиарда рублей. На фоне 8 триллионов это ничто. Соответственно, очень часто заявляют какие-то большие цели, а оперируют очень маленькими суммами.
А вот таких коллективных… Например, наша бизнес-школа «Сколково» – на самом деле один из немногих примеров именно коллективного филантропического проекта, когда большая группа бизнесменов, вместо того чтобы каждый по чуть-чуть куда-то что-то тратил, скинулись, сделали большое дело, которое уже 12 лет развивается, создали бизнес-школу мирового уровня. Примеров таких очень мало.
Анастасия Урнова: Мне кажется, вы затронули очень важную тему. Насколько я знаю, она активно муссируется в среде филантропов, благотворителей. Илья, сегодня задачи, которые ставят перед собой благотворительные миссии и фонды, они скорее адресные? То есть мы конкретно выбираем, кому помогать? Или это уже стратегическое стремление решить какие-то глобальные и системные проблемы?
Илья Зибарев: Я думаю, что на 80% это точно адресная помощь до сих пор, к сожалению. Но то, что стратегические изменения или системные изменения уже в повестке фондов – это точно. И я думаю, во многом она в повестке фондов, потому что те же богатые люди, люди из бизнеса приходят туда и понимают, что, помимо адресных вещей… Ты будешь постоянно давать, а удочку не даешь. А задача – искоренить проблему.
Поэтому ты должен думать, как ее решать системно, используя все те же инструменты, что ты используешь в бизнесе. То есть ты находишь стейкхолдера, кто может эту тему поменять, готовишь вопрос и меняешь. Но фонды глобально бедные. То есть денег, в принципе, мало. А адресных запросов очень много. Поэтому ты тут разрываешься: лечить либо инвестировать, я не знаю, в производство или исследования по лекарствам, либо делать большие обучающие программы.
В принципе, крупные фонды уже делают и адресные, и обучающие. По-моему, мало кто инвестирует в исследования, здесь просто много денег требуется. В принципе, я думаю, это завтрашний день.
Анастасия Урнова: По вашим ощущениям, фонды стремятся дружить друг с другом? Или это все-таки высококонкурентный рынок?
Илья Зибарев: Фонды дружат друг с другом – при том, что рынок иногда конкурентный, да. Но фонды дружат. Если честно, менеджмент фондов за последние пять лет тоже профессионализируется серьезно. Люди приходят решать задачу. Если они не понимают, что ее проще решить вместе, они стараются ее решать вместе. Но примеров, действительно, не очень много. Я думаю, что…
Но, с другой стороны, в целом рынок благотворительности в России быстро развивается. Это прямо видно и в деньгах, и в фондах, и в профессионализме фондов, и даже в зарплатах сотрудников. И это большой плюс, потому что там тоже должны работать профессионалы.
Анастасия Урнова: Это очень важно.
Илья Зибарев: То есть не только сердце горит, а там надо еще… Если ты айтишник, то делай хорошо. Если ты директор по фандрайзингу, то умей фандрайзить, умей разговаривать с корпоратами, умей с массовым фандрайзингом работать, если ты пиарщик. То есть это все профессиональная деятельность.
Анастасия Урнова: Ну и вообще надо понимать, наверное, что работа в фонде – это в первую очередь операции, отчеты, передача денег. И здесь важно не горячее сердце, а мозг.
Илья Зибарев: Этого много, этого много, да. Иногда говорят: «Слушайте, люди боятся нанимать дорогих специалистов или зарплаты платить им как бы стыдно». Но мне кажется, что это такой ложный стыд, потому что любой профессиональный директор по фандрайзингу намного больше пользы принесет фонду и намного больше денег принесет в фонд, чем если мы наймем недорогого, но такого вроде бы сердобольного.
Анастасия Урнова: Ну, разумеется. Матвей, мы можем сегодня как-то оценить, насколько вообще профессиональной стала корпоративная благотворительность? Чем в первую очередь занимаются люди?
Матвей Масальцев: Ну, как раз корпоративная благотворительность, по крайней мере в больших компаниях, она вполне себе профессиональная, в транснациональных, в которые эта культура пришла, не из России.
Анастасия Урнова: То есть идея, когда мы просто на Новый год собираемся деньгами, едем в детский дом дарить подарки – это уже устаревает?
Матвей Масальцев: Она жива.
Анастасия Урнова: А, жива?
Матвей Масальцев: Она вполне жива, но устаревает, да. То есть в крупных организациях (это не только про корпоративный сектор), вообще в устойчивых, давно существующих серьезных фондах все в порядке и со стратегическим мышлением, с профессионализацией. Именно они – такие драйверы этого процесса. Есть, как правильно было сказано, плюс-минус 80% тех, кто еще не задумывается об этом. Это как раз те организации, которые продолжают еще заниматься… Ну, в адресной помощи самой по себе нет ничего плохого. Есть разные форматы, разные варианты. Иногда невозможно пройти мимо какой-то беды, которая перед тобой.
Анастасия Урнова: Ну разумеется. Я просто знаю, что частные доноры жалуются: «Мы тратим деньги, тратим, тратим, тратим, а воз и ныне там, проблема вообще никак не ликвидирована».
Матвей Масальцев: Да. Проблема не в том, что адресная помощь против какой-то системной, такой инфраструктурной поддержки. Проблема в том, что иногда и адресная помощь оказывается по принципу «догнать и причинить добро». Вот как-то быстро сделать что-то хорошее, успокоиться, но без какого-то вдумчивого подхода к тому, что ты делаешь. Пример с подарками в детские дома – он просто классический. И подобных примеров достаточно много, когда ты бежишь, делаешь что-то хорошее, а на выходе получаешь на самом деле обратный эффект.
Илья Зибарев: Извините, но это тоже хорошо, потому что это прямые мотиваторы, call to action очень легкий. Это легкий вход людей, которые никогда благотворительностью не занимались, в благотворительность.
Анастасия Урнова: А дальше они разбираются.
Илья Зибарев: А дальше они развиваются. Они больше об этом узнают. Они понимают, что нужно посмотреть, какие еще программы есть в фондах. И так далее. Поэтому мотив… Вот мы раньше говорили: «А какой у бизнесменов мотив? Прагматичный?» Все равно.
Матвей Масальцев: Я с этим согласен…
Татьяна Задирако: Можно я скажу?
Анастасия Урнова: Сейчас. Вот у вас, например. Илья же сам был сам крупным менеджером. Вы почему-то кардинально поменяли свою деятельность. Почему?
Илья Зибарев: Мне интересно этим заниматься.
Анастасия Урнова: То есть это горячее сердце?
Илья Зибарев: Мне нравится этот сектор. Я понимаю, что все мои навыки, которые я приобрел в бизнесе, я могу сейчас очень эффективно использовать в благотворительной сфере. И я их стараюсь максимально использовать, капитализировать благотворительную сферу. Вот сейчас в моем текущем статусе мне это прямо очень ложится на сердце. Я радуюсь. Мне это доставляет удовольствие.
Анастасия Урнова: Плюс я читала ваши рассуждения: «Это абсолютно бизнес. Вот мы сейчас запускаем новый проект. Он через год выйдет на самоокупаемость и полетит».
Илья Зибарев: Ну, потому что… Смотрите. Это очень эффективно. Вот мы нанимаем фандрайзера хорошего, и он… Был прямо пример. Мы заплатили человеку за два года, наверное, миллионов пять личных денег, софинансировали с фондом фандрайзера. Но он сам привлек миллионов пятьдесят, и сделал это так, что это работает уже и без него, и без нас. Все, он уже отстроил эти схемы с банками, с корпоративными компаниями. Ну слушайте, в 10 раз возврат инвестиций.
Анастасия Урнова: В общем, это был очень хороший человек. Мне кажется, что сейчас все такие: «Интересно, как его зовут?» Татьяна, вы хотели добавить.
Татьяна Задирако: Я бы хотела сказать следующее. У меня ваше выступление вызывает инференции. Во-первых, люди, которые начинают заниматься адресной помощью, не факт, что перейдут потом к системной помощи. Не надо преувеличивать. Есть люди, которые, войдя в сектор, помогают индивидуально, на случай, они там и остаются. И это нам показывает частный фандрайзинг у частных лиц. Мы вернемся чуть позже к этому. Там невероятные деньги крутятся!
И люди не понимают, зачем им платить фондам с их административными расходами, с зарплатами людям и так далее, если можно сразу взять, на сайте насобирать 50 миллионов маме, у которой ребенок находится в летальной стадии лейкемии, и ничего при этом не изменится. И люди транслируют активно эту историю: «Вот мой опыт такой-то. Я дал столько-то денег. Я считаю, что только надо помогать. И не нужны нам, товарищи, все эти фонды с фандрайзинговой стратегией, с портфолио различных проектов и так далее». Это первый момент.
Второе. Интересуюсь. Имя в студию! Кому это заплатили 5 миллионов? Я прямо очень интересуюсь рынком профессионального фандрайзинга.
Анастасия Урнова: В смысле? Что, так мало? Или так эффективно работал человек?
Татьяна Задирако: Это невероятные деньги. Это невероятные деньги!
Мария Черток: Таня…
Анастасия Урнова: Он собрал в 10 раз больше.
Илья Зибарев: Деньги любят тишину, поэтому я точно не скажу.
Татьяна Задирако: Ну конечно, вы не скажете.
Илья Зибарев: Человек пришел из бизнеса, и ему нужно было платить нормальную зарплату, он не мог работать на меньшие деньги. Это очевидно. Он работал с крупными компаниями. Вот недавно ко мне пришел человек, который не понимает в маркетинге, не понимает в банковском продукте. Мы бы не договорились.
Татьяна Задирако: Маша, ты на меня смотришь и говоришь: «Таня…» Это 200 тысяч рублей этому человеку в месяц зарплата. Это нереальная сумма!
Анастасия Урнова: Так он приносит миллионы.
Татьяна Задирако: Но я не про это. Я про то, что есть определенные представления. О чем говорил Матвей? И еще вот эта дама прекрасная, которая говорила: «Сделал доброе дело – и забудь об этом сразу». Да? Это разговор про что? Про то, что мы должны быть серыми, убогими, бедными, несчастными, не получать зарплату, работать 24/7/365 и быть довольными…
Екатерина Богомолова: Это классический стереотип.
Татьяна Задирако: Совершенно верно. И вот люди про нас думают. Я всегда говорю: «Я не такая. У меня три образования, пять рабочих языков». Почему я должна быть нищей? Я не хочу, я не согласна.
Анастасия Урнова: Так вы сейчас первая возмущаетесь высокой зарплатой.
Татьяна Задирако: Я просто говорю, что хочу знать героев.
Илья Зибарев: Смотрите, это очень хороший… Действительно, есть такие стереотипы, что в благотворительности должны быть какие-то попрошайки, что они ходят и все просят. Это, кстати, заметно в отношениях с корпоративными донорами.
Татьяна Задирако: Да.
Илья Зибарев: Они смотрят на тебя, как на попрошайку. Мы сейчас меняем эту парадигму. Мы приходим и говорим: «Слушайте, у нас есть современные программы фандрайзинга, повседневная благотворительность. Включите нам в банковский продукт элемент благотворительности и дайте вашим клиентам возможность быть благотворителями. Не нужно свои деньги тратить. Свои деньги – на развитие бизнеса. В стране и так бизнес никакой. Пусть больше налогов будет, больше трудоустройства и так далее».
И это очень хорошо. Потому что, в принципе, когда предприниматели входят в благотворительные организации, они прекрасно понимают, что тут так же, как и в бизнесе. Ты хочешь, чтобы у тебя что-то развивалось. Что ты делаешь? Ты идешь на рынок «хантишь» человека, инвестируешь в него деньги – и человек дальше развивает направление бизнеса, и бизнес тебе зарабатывает. Одинаковая схема, как и везде. В бизнесе это эффективно, это эффективный способ. Давайте эффективные способы использовать в благотворительности. Там цена эффективности еще выше – это человеческие жизни или здоровье, или собаки и так далее.
Анастасия Урнова: Давайте еще на примере Марии. Я знаю, что очень маленький процент фондов тратит больше половины тех денег, которые он получает, на свои административные расходы. В основном это все-таки эффективно потраченные деньги на то, на что вы их пожертвовали.
Мария Черток: Ну, для начала надо сказать, что по российскому законодательству фонды, благотворительные фонды даже не имеют права тратить больше чем 20% на свою хозяйственную деятельность. То есть 80% как минимум должно идти на программную деятельность, на помощь и так далее. Конечно, большинство фондов и 20% на себя, конечно, не тратят.
Но при этом я совершенно согласна с Ильей, что невозможно заниматься профессиональной деятельностью, которая приносит стабильную пользу, вообще не имея профессиональной команды, не имея никакой инфраструктуры внутри организации. Такая организация может закрыться в любой момент, потому что людям будет кушать нечего, и они побегут, чтобы детей кормить, зарабатывать где-то в других местах.
И это, между прочим, относится не только и не столько к фандрайзерам. Фандрайзер-то, может, себя и окупит. Это относится к людям, к профессионалам, которые непосредственно работают с людьми, с целевой аудиторией (извините за канцеляризм). Если мы хотим помогать детям с инвалидностью или с другими какими-то особыми потребностями, то нужно, чтобы были профессиональные, не знаю, психологи, реабилитологи, врачи, которые с ними будут работать.
Илья Зибарев: Вся команда должна быть профессиональной.
Мария Черток: Деньги впрямую в помощь не переводятся, они переводятся только через профессиональную работу.
Анастасия Урнова: Екатерина, вы так начали просто кивать, когда заговорили: «Да-да, есть стереотипы». Может быть, подробнее расскажете, какие они есть?
Екатерина Богомолова: Я соглашалась именно со стереотипом о том, что благотворительная компания должна выглядеть, казаться попрошайкой. Но если говорить о таких самых популярных…
Анастасия Урнова: То есть, если приходят хорошо одетые люди и говорят: «Нам нужна помощь», – денег не дадут?
Матвей Масальцев: Ну, смотря куда.
Екатерина Богомолова: На самом деле просто для того, чтобы изменить все эти стереотипы, нужно, чтобы в обществе сформировалась определенная норма, чтобы для всех – и для бизнесменов, и для компаний, и для обычного человека – это стало чем-то само собой разумеющимся. Поэтому просто нужно работать над этим. И по прошествии времени…
Андрей Шпак: Я не соглашусь с этим. Здесь было обвинение, что люди у нас не такие, вот они все как-то тратят неправильно. С моей точки зрения… Опять же мы в нашем исследовании Центра управления благосостоянием, которое уже упоминалось вначале, из него тоже выходило… А там очень простой запрос. Запрос не в том, что адресная помощь, а запрос на конкретный результат, на информацию о конкретном результате.
На самом деле, если мы посмотрим, большинство фондов… Например, я лично, соответственно, регулярно жертвую в четыре фонда, причем через портал того же CAF. То есть данные обо мне есть. Хоть одного бы я получил хотя бы SMS со ссылкой: «Мы сделали вот это. Мы сделали то-то». Я не знаю, что происходит. То есть, условно говоря…
Анастасия Урнова: Так вы же наверняка можете подписаться на их рассылку. Нет?
Андрей Шпак: И здесь то же самое. Запрос очень простой: «Скажите мне, на что ушли мои деньги». Почему люди идут напрямую? Потому что я пришел, я увидел.
Анастасия Урнова: Я просто, например, тоже подписана. Я получаю регулярно письма. Но я от них отписалась, потому что: ребята, я вам верю, вы там работаете, но не спамьте.
Андрей Шпак: Ну о’кей, хорошо. Значит, вам повезло. Значит, те фонды, на которые вы тратите деньги, они как-то информируют. Но здесь просто, с моей точки зрения, есть колоссальный разрыв в потребности людей в информации, в запросе на результат…
Илья Зибарев: Ну, обратная связь.
Андрей Шпак: …и в том, что они получают от фондов. Естественно, если я не знаю, куда уходят деньги, то я буду ему доверять меньше. Опять же у нас страна…
Екатерина Богомолова: Это тоже к теме стереотипов, даже не стереотипов, а профессионализма.
Анастасия Урнова: Пиарщик денег стоит.
Екатерина Богомолова: Идет профессионализация. И сбор обратной связи – это тоже элемент этого профессионализма.
Анастасия Урнова: Мария, у вас был ответ на вопрос.
Мария Черток: Да. Я хочу сказать, что есть такое очень распространенное ощущение, что нам не дают обратной связи, нам не рассказывают. На примере нашего же портала, который, как я понимаю, вы используете. Спасибо вам за это. Страницы отчетов об использовании средств, как мы видим в аналитике сайта, туда люди не ходят вообще. То есть люди хотят…
Анастасия Урнова: Ну, они ждут, пока им придет SMS или письмо на почту.
Мария Черток: Нет, люди хотят знать. Они хотят быть уверенными в том, что их деньги потрачены с умом и на то, на что они их дали. Но они абсолютно не готовы как бы вникать. И запроса на реальную информацию нет. Есть запрос просто на уверенность через какую-то такую, знаете, маркетинговую коммуникацию. Может быть, это и нормально. Не все готовы погружаться, лазить по сайтам и так далее. Но это в том числе ведет к тому, что те, кто не готовы осознанно относиться к своей благотворительности (сейчас вас абсолютно не имею в виду, вы простите), они и не готовы к осознанности в момент совершения пожертвования.
Анастасия Урнова: А в какой форме вообще в основном люди участвуют в благотворительности?
Мария Черток: Вот хотела про это сказать. Мы ежегодно делаем исследования про частные пожертвования с опросом массовым людей. И до сих пор у нас превалируют эсэмэски. Что это значит? Это значит, что человек сидит, смотрит телевизор. Ему там короткий номер высвечиваются, и ему в трех словах сказали, про что. Человек отправил эсэмэску. Он, в принципе, забыл. Он вообще не понял, может быть, на что. Но на душе…
Анастасия Урнова: Душещипательная картинка была.
Мария Черток: На душе хорошо становится. И в этом смысле это такая как бы сострадательная у нас благотворительность и спонтанная. И очень маленькое количество людей действительно готовы, прежде чем совершить пожертвование, вникнуть, что это за организации, что они делают, как я узнают про то, на что пошли деньги.
Но на самом деле на протяжении последних пяти лет мы видим, что число таких людей растет. Например, растет число людей, которые совершают пожертвования онлайн. Когда люди делают это онлайн – это значит, что они что-то прочитали, они что-то посмотрели, потому что это все там. И там же они пожертвовали. А эсэмэска ничего такого не предполагает, извините, никакого исследования предварительного.
Илья Зибарев: Слушайте, это же классическая воронка, воронка продаж.
Мария Черток: Конечно.
Илья Зибарев: Эсэмэска – это начало воронки. Дальше ты работаешь с этими людьми, предлагаешь им сделать онлайн-пожертвования, предлагаешь подписаться. В идеале – вообще рекурент сделать, чтобы он регулярно это делал. Это обычный бизнес, обычный процесс по работе с людьми.
Говоря о том, что люди ожидают… Вот если люди ожидают какого-то «спасибо»… Вот вы на ребенка дали. И послать его читать отчеты – это не работает. Поэтому надо что-то давать, что они ожидают как обычные клиенты.
Татьяна Задирако: Но вы же можете выяснить, кто ваша целевая аудитория и насколько таргетированная. Тем более когда вы делаете пожертвования через промежуточные…
Анастасия Урнова: Коллеги, мне кажется, это довольно просто. Многие организации раз в месяц присылают дайджест своей работы. Пожалуйста. Просто надо, видимо, платить человеку, который будет этот дайджест работы составлять.
Илья Зибарев: Если 50% жертвователей говорят: «Мы чего-то не получили», – вот как вы, то это значит, что надо найти форму, чтобы…
Анастасия Урнова: Давайте зафиксируем проблему и не будем уходить в совсем профессиональную дискуссию. Матвей, у вас был комментарий.
Матвей Масальцев: Ну, на самом деле, действительно, 80 или даже больше процентов людей жертвуют спонтанно, это известно. Ну, я не уверен, что это количество прямо как-то сильно кардинально уменьшится, потому что… Ну, действительно, для того чтобы осознанно заниматься благотворительностью, нужны определенные компетенции, нужно потратить время, потратить не только время, но и как-то свою душу, прочитать и так далее. Это никогда не будет массовой историей. Всегда будут вникать и читать отчеты какое-то небольшое количество людей. И это нормально, это везде.
Другой вопрос, что… Мне кажется, что здесь человеку нужно чувствовать доверие к той организации, которой он жертвует. Это доверие не получается с помощью даже воронки продаж, а оно, скорее всего, в массе своей получится только с течением времени, когда организации будут жить в несколько поколений, я не знаю, как в странах с развитой благотворительностью, когда я буду знать, что мой отец жертвовал туда. И почему бы мне не пожертвовать. Я доверяю этой организации. По крайней мере, мы знаем какие-то такие серьезные и устоявшиеся бренды в обществе, которые всем известны.
Такого в России сейчас нет. Поэтому получается парадоксальная ситуация, когда наши массовые жертвователи думают о том, что они не доверяют благотворительным фондам, потому что те хорошо хотят жить, но при этом доверяют вполне себе мошенникам, потому что они очень хорошо, быстро, спонтанно объясняют, почему нужно пожертвовать. То есть это абсолютно перевернутое сознание возникает именно из-за этого, из-за такого кризиса доверия. А доверия не получится из-за изучения сектора, из-за отчетов, прозрачности, хотя это очень важно. Оно получится только с течением времени.
Анастасия Урнова: Со временем. Екатерина, а вообще на что люди склонны в первую очередь жертвовать деньги?
Екатерина Богомолова: Дети. Наиболее популярное направление – это болезни, дети, социальная помощь, направленная на детей-сирот и на детей с тяжелыми заболеваниями. Дальше уже идут другие направления. Самое непопулярное – это помощь взрослым людям.
Анастасия Урнова: То есть хуже всего человеку с тяжелым неизлечимым заболеванием, которому 18 лет? Ну, 19.
Илья Зибарев: Хуже, когда 35–40.
Мария Черток: Нет, хуже всего человеку с ВИЧ или бездомному.
Анастасия Урнова: Здесь люди не хотят помогать. Вот мы с вами говорим про культуру благотворительности. Очень активно обсуждались кейсы. «Ночлежка» – благотворительный фонд, который пытается помогать бездомным – он уже сколько времени в Москве, например, не может открыть свой центр, куда люди бы смогли прийти, переодеться, помыться и так далее. Почему? Это наше отношение к благотворительности или это конкретно табуированная тема?
Татьяна Задирако: Можно я?
Анастасия Урнова: Да, пожалуйста.
Татьяна Задирако: Во-первых, за последние лет пять расширился очень спектр направлений, которым вообще люди готовы помогать. К тем, о ком вы сказали, еще нужно добавить животных. Экология растет очень сильно. И пожилые люди стали уже вообще абсолютно нормальной темой, где можно помогать. Еще лет двенадцать назад о пожилых людях все говорили: «Не хочу пожилым, хочу детям, потому что дети – это будущее России». Знаете постулат, да? А сейчас тематика развивается.
И бездомные граждане, и граждане с ВИЧ, и граждане, например… Что там еще? Такая непопулярная тема – люди, освободившиеся из мест заключения. Благодаря фондам, которые точечно и системно работают в поле, эта тематика начинает развиваться.
Мое глубокое убеждение, что проблема с «Ночлежкой» – это проблема неправильной коммуникации при заходе на новую территорию. Что говорят нам все международные исследования? Когда ты пришел на новую территорию, ты должен со своими целевыми аудиториями проговорить это. И городское сообщество, которое «Ночлежкой» не рассматривалось как сформированное городское сообщество, в частности в районе «Савеловской», оно не было объектом коммуникации.
Второй момент. Когда ты коммуницируешь со своим сообществом, и сообщество говорит: «Не хочу тебя, уходи!» – ты должен отойти, отрефлексировать и придумать другие бизнес-подходы, как тебе нужно это сообщество подцепить на тематику. «Ночлежкой» этого не было сделано. И вот этот пушинг постоянный: «Я тебе причиню добро. И я знаю лучше, чем ты, как надо быть в твоем районе, где ты уже отстреливался от реновации», – он не сработал. И через год он не сработал во второй раз. Понимаете?
Потому что, несмотря на все, что мы говорим о развитии, у нас уровень социального активизма, во всяком случае в таких городах, как Москва, он очень сильно растет. Люди сообществами мелкими, локальными, тематическими объединяются для защиты своих интересов. И мы видим, что два раза люди в определенных районах очень сильно консолидировали эту позицию для того, чтобы выяснить…
Анастасия Урнова: Поняли вас. В общем, проблема фонда, а не какая-то глобальная.
Смотрите, на что я еще обратила внимание – это на динамику, скажем так, источников финансирования благотворительных фондов. Из того, что я прочитала, я сделала вывод, что все большую и большую ролью начинает играть государство. Размышляя логически, мне показалось, что с течением времени, с укреплением культуры благотворительности, наоборот, НКО должны становиться все более независимыми от государства и все более зависимыми от обычных людей, от корпораций, крупных частных доноров. У нас происходит наоборот? И почему?
Татьяна Задирако: А кому вопрос?
Анастасия Урнова: Мария, вы, наверное, знаете. К знатокам.
Мария Черток: Я думаю, что вы правы. Это, конечно, такая немножко как бы деликатная тема. Потому что, с одной стороны, хорошо, что государство увидело в благотворительных организациях, в некоммерческих организациях какую-то силу, способную решать проблемы, снимать социальную напряженность и так далее, и наконец, в последние несколько лет начало выделять на это средства. Потому что до этого средств практически никаких не было.
Анастасия Урнова: А каким образом? Потому что я знаю, что некоторые люди говорят: «Государство? Благотворительность? Как это вообще может работать?»
Мария Черток: Есть такая гигантская структура, которая называется Фонд президентских грантов, который раздает на всю страну гранты на самые разные темы. По-моему, у них 17 ключевых направлений, ну, практически покрывающих все, что можно себе представить. И это как бы такой очень большой источник. Плюс в регионах многих есть тоже свои программы грантов и субсидий.
В Москве, например, есть целых две таких программы, которые ведут разные департаменты внутри Правительства Москвы. Плюс есть у всяких федеральных министерств тоже определенные бюджеты на субсидии для поддержки некоммерческих организаций по своему профилю – например, про молодежь, про спорт или про что-то еще.
В общем-то, ничего, конечно, в этом плохого нет. Наоборот, хорошо, когда появляется такой приток средств, с одной стороны. С другой стороны, все это происходит на фоне как бы немножко оскудевающих бюджетов, так сказать, других типов доноров – например, корпораций. Все благотворительные организации, я думаю, без исключения, согласятся, что у компаний денег на благотворительность стало меньше, так или иначе.
Анастасия Урнова: Это кризис? Это просто экономическая ситуация в стране?
Мария Черток: Ну да, это экономическая ситуация. Я не знаю, какие-то приоритеты у них меняются и так далее. Более того, вот этот очень сильно растущий сегмент массовой благотворительности, на которую очень многие благотворительные организации сориентировались и научились работать с этими массовыми пожертвованиями, он тоже как бы, скажем так, не растет. Тем более, может быть, больше людей участвует, но средний чек, что называется, меньше. То есть у людей заканчиваются свободные деньги, которые они готовы на благотворительность потратить.
И в этом общем контексте получается, что государственные деньги становятся такой очень большой и весомой долей в бюджетах благотворительных организаций. Кроме того, это относительно легкие деньги – с той точки зрения, что ты написал заявку, ты получил свои, не знаю, три миллиона, восемь или даже десять.
Анастасия Урнова: Но ты потом отчетность будешь еще готовить.
Мария Черток: Ну да, отчетность. Но это на самом деле гораздо более, так сказать, простая история, чем массовые пожертвования, например, которые требуют построения очень такой профессиональной машины и инвестиций постоянных в эту тему.
Поэтому, к сожалению, очень многие организации, особенно в регионах, они сориентировались на эти большие гранты. В общем, все остальное… И живут от гранта до граната. Поэтому мы в последнее очень часто слышим такие крики о помощи: «Мы не получили наш президентский грант! Все, организация закрывается. Помогите!» Ну, это проблема устойчивости наших организаций и действительно недостаточной диверсификации их ресурсной базы – что очень печально.
Анастасия Урнова: Андрей, с другой стороны, насколько государство в том числе помогает создавать инфраструктуру, комфортную для занятия благотворительностью, и стимулирует крупных частных доноров? Насколько корпорации тратят деньги, например, с точки зрения своей налоговой политики? Я знаю, что у нас тоже многие жалуются и говорят: «Вы не облагайте налогом то, что мы потратили».
Андрей Шпак: Во-первых, хотел бы немного, может быть, дополнить, может быть, пооппонировать Марии. В каком контексте? Например, наши исследования по той выборке, которую мы делали…понятно, она была ограниченная, но в ней две трети денег уходили мимо фондов, то есть они шли именно прямым…
Анастасия Урнова: Куда?
Андрей Шпак: То есть прямая адресная помощь. Ну, имеется в виду частная. Когда говорят, что идет просадка, что фонды не могут до конца собрать деньги. Ну, это частично в том числе проблемы и фондов, потому что они не смогли получить доступ к этим деньгам, которые проходят мимо них.
Второе – с точки зрения участия государства. Глобально… Ну, это опять же вопрос: как мы смотрим? Если мы смотрим, что есть вот такая отдельная песочница «благотворительные расходы», а есть другая песочница «социальные расходы», то, да, много говорить, что здесь государство начало играть большую роль/меньшую роль.
Если мы рассматриваем это в принципе как расходы социального плана – ну о’кей. То есть государство тратит 8 триллионов здесь и чуть-чуть потратило через другой канал. Понятно, что когда оно тратит на бюджет, на бюджетные организации, соответственно… Вот я трачу каждый год, очень сложно мне контролировать. А здесь я делаю точечно, разово. Соответственно, там могу экспериментировать. В том числе фактически это такой квазиаутсорсинг: часть функций, которые я делал раньше бюджетно и регулярно, я делаю вот так.
В части налоговой политики – да, конечно, у нас льгот на благотворительность ну практически нет. То есть, да, они формально есть, но они не очень большие. С другой стороны, опять же не надо забывать, что все-таки государство благотворительные организации от налогов освобождает, поэтому…
Анастасия Урнова: Ну, благотворительные – да. А вот я корпорация, я хочу потратить много денег, не знаю, 20/10/5% своей прибыли на благотворительность. Но я же заплачу налоги с них.
Андрей Шпак: С одной стороны – да. С другой стороны, давайте смотреть на налоговые ставки, соответственно. У меня, например, ставка подоходного налога, НДФЛ – 13%. А в Америке…
Мария Черток: Подождите, подождите! Давайте расчистим как бы фактологически…
Татьяна Задирако: Понятийно, понятийно
Мария Черток: То есть, с одной стороны, у нас есть налоговый вычет на благотворительные пожертвования частных лиц. Вы можете получить назад свои 13% от тех сумм, которые вы пожертвовали. Ровно так же, как вы получаете другой имущественный вычет.
Анастасия Урнова: До определенного лимита, правильно?
Мария Черток: Ну, там большой лимит.
Анастасия Урнова: Даже если я богатый человек, он все еще большой?
Мария Черток: Понимаете, наши богатые люди не платят НДФЛ, а они платят другие налоги. И вот там освобождения никакого нет.
Анастасия Урнова: Ну хорошо, потратила я 100 тысяч рублей на благотворительность. Я получу 13%?
Мария Черток: Да, получите свои 13% назад.
Анастасия Урнова: Уже хорошо.
Мария Черток: Вплоть до 25% налогооблагаемой базы. Это много. Никто столько на благотворительность не тратит – ну, те, кто НДФЛ платят.
Что касается компаний, то тут вы совершенно правы. Никаких налоговых льгот и вычетов для компаний на благотворительность не предусмотрено. И все попытки хоть как-то раскачать этот вопрос просто уходили в песок. В течение многих лет сообщество не смогло ничего сделать в этом направлении. Мы единственная страна в нашей категории… Как это называется? Экономически…
Анастасия Урнова: …развитые.
Мария Черток: …да, в которой нет льгот для компаний. И я думаю, что это было бы, конечно, стимулом для того, чтобы компании… Они, может быть, не начнут, если они не тратили, но они, может быть, будут тратить чуть больше, если бы у них была возможность вернуть налоги.
Анастасия Урнова: Илья, стали бы?
Илья Зибарев: Ну смотрите. Это точно аргумент для компаний. Сейчас компания говорит: «Слушайте, ну я трачу из своей прибыли, а это все облагаемая налогом база». Ну, как бы не совсем правильно, конечно. А если говорят: «Слушайте, теперь есть, например, льготы», – то этот аргумент компания может и убрать. У нас был на самом деле закон, раньше были льготы в свое время.
Мария Черток: Но это было 90-е годы.
Татьяна Задирако: Потом их отменили.
Мария Черток: И было очень много злоупотреблений, поэтому их закрыли.
Илья Зибарев: Но мы знаем, какие были в 90-е годы. Там все лазейки использовались для вывода денег. И, к сожалению, вот это прошлое, мне кажется, давит сейчас во многом, что все так относятся: «Ну, сейчас мы вам опять создадим лазейки». Ну слушайте, это точно должно быть. В нормальной, в любой модели экономически цивилизованного государства все деньги, которые идут на благотворительность, не должны облагаться налогами.
Анастасия Урнова: А занимается ли корпоративный сектор каким-то лоббизмом этого вопроса?
Илья Зибарев: Нет.
Анастасия Урнова: Почему же?
Татьяна Задирако: Я хочу сказать, что некоторые из нас, находящиеся в этом зале, были членами рабочей группы, которая занималась при Министерстве экономического развития Российской Федерации как раз лоббированием закона о предоставлении льгот компаниям, которые согласны давать деньги на благотворительность. Кто были главными ступорами? Ну понятно, что Минэкономразвития было в авангарде этой борьбы. А кто возражал больше всех? Это было Министерство финансов и региональные органы государственной власти. Их главный постулат был в том, что региональные бюджеты недополучат денег.
Второй момент, который был очень важен, – это момент о том, как проверять, нормальные ли фонды будут реципиентами помощи, если компании будут делать пожертвования.
И третий, очень важный момент, – сколько же должен быть налог, ну, налоговая преференция, как это называется, сколько процентов, допустим, от прибыли компании? И тут мы сломали все копья, потому что мы хотели как можно больше. Были согласны на 3%.
Анастасия Урнова: А государство хотело все меньше.
Татьяна Задирако: Понимаете, государство как бы говорило: «Нет-нет, давайте вообще не будем». Но мы там обсуждали, сколько процентов мы бы хотели – вот мы, которые пытались лоббировать. Конечно, это была не корпоративная история. Это были больше некоммерческие организации, экспертный сектор и так далее, и так далее.
Наша мечта была – 10%. Сказали, что сломаемся на 5%. Да?
Мария Черток: Нет-нет-нет. Предложение на самом деле, финальное предложение, которое там до сих пор где-то ходит, было про 1%. То есть сейчас есть налоговый вычет, налоговая льгота для компаний – потратить 1% на рекламу и спонсорство. И минимальный запрос был: «Давайте мы в этот список добавим благотворительность. Они могут 1% на рекламу, спонсорство и благотворительность».
Анастасия Урнова: И на благотворительность. Удалось это?
Мария Черток: Даже это не прошло. Нет, это не прошло и не проходит уже несколько лет. О 5% мы мечтали, но…
Татьяна Задирако: И еще я последнее скажу. Теперь у меня к Илье вопрос.
Анастасия Урнова: У нас просто буквально минута.
Татьяна Задирако: Секунда. А теперь представьте себе, что вы получили налоговую льготу в 1%, но при этом вашей компании, всему холдингу за эту прекрасную вещь нужно пройти камеральную проверку всех бизнесов.
Анастасия Урнова: Хороший вопрос.
Илья Зибарев: Я вам отвечу. Просто мы и так проходим эти все проверки регулярно. Мы «КамАЗами» возим отчетность в Центральный банк, если это касается банков. И вы это прекрасно знаете. И ничего не меняется, все равно банки банкротятся.
Анастасия Урнова: Не испугайтесь!
Говорили сегодня о развитии благотворительности в России. От себя полслова. Участвовать в этом стоит. Даже если вы жертвуете 10, 15, 100 рублей в месяц, вас таких много – и собираются колоссальные суммы, и это имеет значение.
Правду вместе с вами искала Анастасия Урнова. Оставайтесь на Общественном телевидении России.