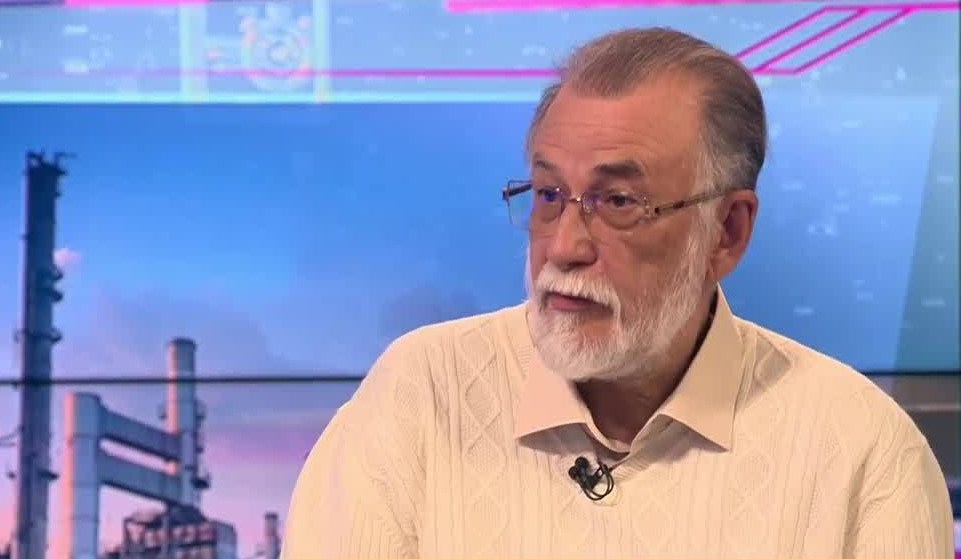Александр Балобанов: Из федерального центра проблемы моногородов не решишь - по другому глаз надо затачивать
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/aleksandr-balobanov-iz-federalnogo-centra-problemy-monogorodov-ne-reshish-po-drugomu-glaz-nado-zatachivat-38015.html 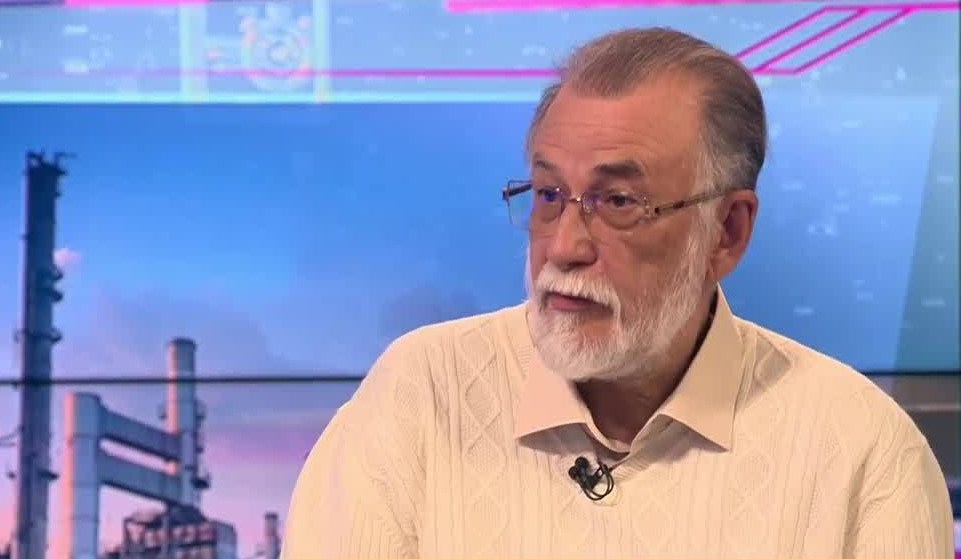
Моногорода Меры государственной поддержки моногородов оказались не эффективными. По данным Счетной палаты с 2014 года на развитие моногородов было выделено 24,86 млрд рублей из которых израсходовали только 17,76 млрд рублей. Ситуация оценивается как «кризисная». Проблемы моногородов обсуждаем с завкафедрой кафедрой государственного управления и публичной политики Института Общественных наук РАНХиГС Александром Балобановым.
Иван Князев: И еще одна важная тема нашего сегодняшнего эфира. В Счетной палате заявили, что меры господдержки моногородов оказались неэффективными, а сама программа – провальная. Основные цели, которые ставились, – переход от ориентированности в экономике на одно предприятие – не достигнуты. Так сказано в отчете ведомства. Хотя на поддержку моногородов за пять лет выделили почти 25 миллиардов рублей. Ситуацию уже называют кризисной.
Ольга Арсланова: Итак, посмотрим на статистику. В России 319 моногородов, в них проживают 13 миллионов человек. Это Приволжский, Сибирский федеральные округа. За период с 2016-го по 2018-й годы население в них сократилось, равно как и предпринимательская активность, а также зарплата – она ниже среднероссийского показателя.
Иван Князев: За период действия программы общая численность населения моногородов сократилась на 38 тысяч, даже чуть больше, а трудоспособного населения – аж на 353 тысячи человек. Предпринимательская активность в моногородах также снизилась. Я бы сказал даже, наверное, на нуле. Компаний стало меньше на 22%, хотя их было тоже не так много.
В общем, обо всем этом прямо сейчас будем говорить. Сегодня у нас в гостях – Александр Балобанов, заведующий кафедрой государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС. Здравствуйте, Александр.
Ольга Арсланова: Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Александр Балобанов: Добрый день.
Ольга Арсланова: Это наше такое советское наследие. И мы обычно говорим одним словом – «моногорода», но у всех у них разные проблемы, разная судьба, разные типы. Какие проблемы сейчас самые острые в моногородах? И, поняв это, мы, может быть, какие-то рецепты придумаем.
Александр Балобанов: Ну, ключевые проблемы самим словом «моногорода» задаются и тем, о чем вы сейчас сказали. Моногород – это город, который был собран вокруг одного или небольшого количества предприятий. В советское время была базовая установка: люди сначала работают, а потом живут в связи с тем, что они работают. Поэтому это нормально было – создать как бы город вокруг одного предприятия.
Ситуация изменилась, предприятия начали жить другой жизнью. Порой и часто, увы, достаточно часто они в сложном состоянии экономическом стали находиться. И это, конечно, отражается на жизни города. Это базовая вещь.
Иван Князев: Да вымирают они практически!
Александр Балобанов: Ну подождите, подождите…
Ольга Арсланова: Далеко не все.
Александр Балобанов: По-разному, по-разному, да. И в отчете Счетной палаты об этом говорится. Они очень разные, потому что… Скажем, Тольятти тоже считался моногородом. Сравните его и сравните какой-нибудь маленький городок, где 50 тысяч или меньше людей. Это, конечно, несопоставимые вещи. Поэтому они, конечно, очень по-разному живут.
Вторая вещь, с которой вы тоже начали, она очень важна, а особенно для маленьких территорий (это не про Тольятти) – вот эта самая предпринимательская активность. Одна из основных задач, которая в программе ставится, которая обсуждается, – диверсифицировать занятость, чтобы было не одно место, где работают люди, а побольше. А как это сделать? Бизнес, предпринимательство, но люди выросли на совсем другом. И людей мало. И они уезжают, как было сказано. Это совсем непростые вещи. И это, конечно, я бы сказал, вторая ключевая вещь.
Ольга Арсланова: А каким моногородам (все-таки краткое уточнение) повезло больше всего? Если предприятие выжило и, например, рядом есть мегаполис, то такие моногорода пока существуют относительно в порядке?
Александр Балобанов: Ну, вы знаете, можно сказать: да, относительно в порядке. Потому что городам, которые далеко, у которых нет рядом мегаполиса, столицы или куда можно ездить работать, конечно, им гораздо хуже.
Ольга Арсланова: И заниматься надо ими?
Александр Балобанов: Уральские города, кировские какие-нибудь. И тот же отчет Счетной палаты говорит о чем? Что в программе зафиксировано (так получилось), что больше усилий или больше результатов в тех городах, которые и сами уже получше выглядят. А те, которые самые-самые депрессивные – туда и усилий меньше, и там хуже. Я думаю, что дело не в том, что усилий меньше, а там потенциал меньше, который…
Иван Князев: Да усилий как раз таки много. Александр, смотрите. За пять лет в моногорода вложили почти 25 миллиардов рублей. Но здесь есть такой маленький нюанс: освоили 71% всех этих денег. На моей памяти это, наверное, первый случай в нашей стране, когда мы не освоили выделенные государством деньги. Почему? Мы просто не знали, что с ними делать? Многие эксперты говорят, что потратили на ерунду всякую, прямо скажем, и никак проблему моногородов не решили. Почему так?
Александр Балобанов: Точек, где средства не осваиваются, немало. Это не только моногорода. И классическая ситуация, когда в конце года надо с бюджетными средствами неосвоенными что-то сделать, и начинается всякая лихорадка. Это связано с неповоротливостью машины, с крайней неповоротливостью государственной машины.
И плюс второе, да, вы правы, выделение точек вливания, влияния – это непростая задача. У нас, в общем, и в общественном сознании, и в государственной машине доминирующее понимание, что из центра пытаемся все решить те же самые проблемы моногородов. Конечно, из центра не рассмотришь, что в том, в том, в том моногороде.
Иван Князев: Так в том-то и вопрос. Вам не кажется, что просто ни в центре федеральном, ни на местах толком никто не знает, что делать с моногородами? Эксперты говорят, что занимались всяким благоустройством, озеленением, дорогие какие-то строили, непонятно куда и непонятно откуда. У нас никто не понимает, что с ними делать.
Александр Балобанов: Конечно. Это одна из базовых вещей – универсальных решений нет, золотого ключика нет: «Сделай вот это – и будет тебе счастье». Это трудная проблема. Она во всем мире есть, во всем мире трудно решается. И в этом смысле это зона такого внимательного поиска аккуратных решений – что для нашей системы управления, в общем, нехарактерно, особенно в условиях централизации. В принципе нехарактерно, а при тренде на централизацию – тем более. Это такая кропотливая и муравьиная работа часто, которой надо заниматься. И быстрых решений тут ожидать не следует. Это длительная работа.
Ольга Арсланова: Астраханская область пишет нам: «У нас нет никаких предприятий, давным-давно закрылись, одни магазины». Приморский край: «В Уссурийске все градообразующие предприятия разрушены или еле дышат». «Куда переселять? Надо экономику поднимать, а не гонять людей туда-сюда».
Вот эти 13 миллионов населения, о которых мы говорили, – не эффективнее ли, с экономической точки зрения, не рациональнее, если у них есть возможность переехать, их переселить и дать им работу там, где это экономически целесообразно, где есть рыночная потребность, а не создавать искусственно этот рынок?
Александр Балобанов: Это старая история. Как программа моногородов начала формироваться (а она же такая яркая), сразу начали говорить: «Переселять? Будут города отселять?» Не будут. Я тогда сказал, что не будут, это лишь разговоры.
Ольга Арсланова: Почему?
Александр Балобанов: По целому ряду причин. Во-первых, это… Знаете, на самом деле если всерьез начинать рассматривать, прагматически… А у меня были случаи, когда я сталкивался с ситуациями, когда такого рода вопросы рассматривались прагматически, то есть люди решали – делать/не делать. Тут выясняется, что в ментальности управленцев, людей очень сильные барьеры: «Как так? Как так?! Это нельзя, невозможно!»
Второе – многие люди не хотят уезжать. Их же так не перенесешь.
Иван Князев: Во-первых, да, с насиженных мест. Я тоже могу представить. Например, я тоже родился в моногородке фактически. Правда, там четыре предприятия было. И как всю семью перевезти? Все мои корни фактически там остались. Это, во-первых, с одной стороны, наверное, будет затратно. Правда ведь?
Александр Балобанов: Затратно будет.
Иван Князев: А с другой стороны, в качестве решения одной из проблем предлагали все-таки привлекать туда бизнес, что-то инвестировать. Но для этого, наверное, какие-то условия нужно создавать бизнесу, чтобы он туда пришел. Как их оживить? Вот куда укол сделать, в какую часть нашей экономики?
Александр Балобанов: Смотрите, вот это одна из основных линий, на которую нацелена программа моногородов и работа фонда моногородов. Но данные Счетной палаты говорят, что не очень цифры, которые вы показывали: на сколько уменьшилась численность населения и на сколько уменьшилась численность трудоспособного населения. То есть самые активные, конечно, уезжают.
Иван Князев: Ну, бизнеса нет. Ничего не производят там, ничего не делают. А почему? Какие нужно условия им создать? Ну, раньше – понятно. Всем Союзом поехали, построили завод, переселили людей – все хорошо, зажили. Сейчас-то что нужно сделать?
Александр Балобанов: Неправильно, я думаю, думать, что мы там сейчас что-нибудь поворочим – и бизнес запустим. Может не запуститься. И пока мы видим, что часто не запускается. Порой запускается, примеры всяких проектов есть, но думать о том, что мы сейчас теми или другими усилиями обязательно запустим там бизнес… Может не запуститься, может не получиться.
Ольга Арсланова: Но бизнес же – это такая штука… У нас же не плановая экономика. Он идет только туда, куда видит смысл идти. Вопрос: как создать активность внутри самого…
Иван Князев: Условия.
Ольга Арсланова: Нет, вопрос в том, как создать активность внутри самого города силами людей, которые там живут?
Александр Балобанов: Вот! Смотрите, вы сказали…
Ольга Арсланова: Это не внешний инвестор, а это самоинвестирование?
Александр Балобанов: Когда вы то, что написали люди, зачитывали, вы говорите… Вот из Астраханской области: «У нас предприятий нет, одна торговля». Торговля – это бизнес.
Ольга Арсланова: Так это хорошо, что есть торговля.
Александр Балобанов: Конечно. И торговля будет всегда.
Ольга Арсланова: У вас есть рабочие места.
Иван Князев: Было бы еще на что покупать. Понимаете?
Александр Балобанов: Будет.
Иван Князев: Если нет работы и ты уже не работаешь на заводе, который тебе стабильно платил, то на что же ты покупать будешь?
Александр Балобанов: Нет, это вопрос масштаба…
Иван Князев: И торговать-то чем?
Александр Балобанов: Это вопрос масштабов и уровней. Да, уровень там ниже. А моногорода, особенно такие небольшие, конечно, они не будут по уровню жизни и возможностей такими, как столицы субъектов или другие столицы. Это надо понимать отчетливо. Но определенный уровень будет всегда. Да, будет ниже. Да, будет покупательная способность ниже. Но люди же все равно покупать будут.
Иван Князев: Понятно. Ну, жить на что-то надо.
Ольга Арсланова: Наталья из Иркутской области звонит нам. Здравствуйте, Наталья.
Иван Князев: Здравствуйте, Наталья.
Зритель: Здравствуйте. Вот я сама живу сейчас в Иркутске, а родилась я в городе Усть-Куте Иркутской области. Я оттуда уехала, потому что у нас действительно там работу невозможно было найти, поэтому я переехала в Иркутск. Сейчас строят дома в городе Усть-Куте, на моей родине, но дома «шалтай-болтай». Дороги не строят. Там от нас газ, нефть. В основном вахтовым методом ездят люди туда работать. Поэтому я думаю, что в моногорода надо вкладываться, потому что все-таки люди не все могут уехать, как я, с одним чемоданом.
Ольга Арсланова: Наталья, вы сказали, что нужно вкладывать средства. А кто это должен делать и на каких условиях?
Зритель: Ну смотрите. Они же тянуть от нас газ и нефть. А куда тянут? Наверное, в Китай. Я думаю, что те…
Иван Князев: Те, кто тянут, должны вкладывать?
Зритель: Ту прибыль, которую они получают, наверное, должны в моногорода это и вкладывать.
Ольга Арсланова: Спасибо большое. То есть у нас все равно все упирается в то, что большинство уверено: помочь должен федеральный центр и почему-то госкорпорации.
Александр Балобанов: Ну да, ну да.
Ольга Арсланова: Но оно же не работает.
Александр Балобанов: Смотрите, это к вопросу о проблемах. Это еще одна фундаментальная проблема моногородов (и не только моногородов). Конечно, у многих людей – а в моногородах особенно – одна из характеристик базового отношения: государство должно, оно должно делать вот это, вот это и вот это.
Иван Князев: Ну, потому что они привыкли. Они приехали туда по государственной программе… Ну, не по программе. Как это раньше называлось? Они работали на государственном предприятии, ходили в государственную школу.
Ольга Арсланова: Государство, правда, уже другое, а так все в порядке.
Иван Князев: А если все-таки немножко пофантазировать и оттолкнуться от этой идеи, что их все-таки нужно расселять? Вот Москва и Московская область пишет: «А куда ехать? Где их ждут? Где им жить?» Расселить хотя бы те самые маленькие, вымирающие, которые действительно уже…
Ольга Арсланова: Кстати, да. Профессиональный состав какой обычно у жителей таких городов? Насколько они конкурентоспособны на рынке труда?
Александр Балобанов: Ну не очень, конечно, потому что он связан с этим монопроизводством. Опять же там расслоение отчетливое. И тот же доклад Счетной палаты об этом говорит. Наиболее квалифицированные – они и уезжают, они могут себя найти. А те, которые заняты просто на неквалифицированных рабочих местах, они в другом месте, где есть такая же неквалифицированная работа, если она не заполнена уже мигрантами какими-то или кем-то еще, то можно. Но это другой тип.
Иван Князев: Александр, вот смотрите, вы привели в качестве примера Тольятти. И пример на самом деле хороший: гигантский завод, все прекрасно, возродили. Но у нас же много таких городков, где осталась хорошая инфраструктура, остались предприятия старые. Они производили нужные всем вещи и нужным делом занимались. Почему как бы сейчас невозможно их возродить? Наверное, этим вопросом каждый житель моногорода задается: «Почему наш завод сейчас простаивает? Почему наша база…» – ну, я не знаю что.
Александр Балобанов: Опять же в разных моногородах…
Иван Князев: Все по-разному.
Александр Балобанов: …ситуация очень разная. Я в свое время участвовал в обсуждении того, что делать с Байкальском. В Байкальске целлюлозно-бумажный комбинат. С ним какая была ситуация? Он вполне себе работал, но потом его продукция стала неконкурентоспособной, потому что эта целлюлоза, которая используется в разных местах, она…
Иван Князев: Ну понятно. А переориентироваться?
Александр Балобанов: А теперь смотрите. Его закрыли, ну, остановили тогда. И мы тогда обсуждали, какие там возможны диверсификации. Разные сюжеты. Но его запустили снова, потому что пока суть да дело… А люди же возмущаются, людям надо где-то жить. Его запустили ради того, чтобы у люди было место работы.
Та же самая классическая ситуация с Пикалево, было то же самое. У нас этот семинар был на территории горнолыжной базы. И директор горнолыжной базы сказал: «Сейчас достаточно пройти только информации, что завод запускается снова – и у меня поток упадет». Это конкурентные вещи.
Я еще раз говорю: это такая тонкая работа, и в каждом случае разная. Потому что в том же Байкальске клубника растет, там фестиваль клубники они делают, там люди предлагали делать изделия для мебели на этой территории, там предлагали делать институт по освоению средств, что вообще делать с такими территориями. Там много было разных предложений. Но это – про Байкальск. А какой-нибудь другой город – там все по-другому.
Ольга Арсланова: Вот нам пишут: «Живу в моногороде в Тульской области. Осваивают деньги: строят бассейн, ледовую арену, парки, памятники. А работы при этом нет, город вымирает». «Нужно весь бизнес в моногородах, – зритель предполагает, – на три года освободить от налогов, пусть развиваются и дают работу людям. А далее на пять лет суммарный налог – не выше 13%. И все оживет».
Ну а пока до реализации этого далеко, жизнь в моногородах похожа примерно на такую картину: «Сколько еще десятков лет будут решаться проблемы? – пишут нам. – Работа по вахтовому методу в Сибири, на Крайнем Севере, гастарбайтерами в Москву ездить по 20 лет. А до пенсии еще далеко, сил уже нет».
Сейчас это трудовая миграция в основном в таких городах? Или люди находят силы и уезжают совсем? Они уезжают вахтовым методом работать и возвращаются или покидают города?
Александр Балобанов: Женщина звонила, и она сказала, что она уехала. Но кто-то работает вахтовым методом. Еще раз, стратегии очень разные у людей и по разным территориям.
Смотрите. Если мы откроем (к вопросу об освобождении от налогов) сайт фонда моногородов, там есть такая страничка – реестр возможностей. Там миллион субсидий – таких, сяких, от того, от того. То есть миллион всяких дополнительных возможностей, которые имеет бизнес. Он в принципе существует.
Второй вопрос: а что значит воспользоваться этими субсидиями? Какие документы там нужно оформить? Что они дают, не дают? Это такая довольно кропотливая работа, к которой часто и бизнес не очень готов в этих моногородах. Обсуждается вопрос, чтобы какие-то налоги оставить в моногородах. То есть это все…
Еще раз, единого решения… Освободить от налогов? Может быть, да. Но единого решения нет. Да, что еще там происходит? Счетная палата что отмечает? Конечно же, когда возникают льготные какие-то условия (кредитование или субсидия), конечно, появляются желающие воспользоваться, которые не только…
Иван Князев: Ну, фиксированные делают программы, да? Фиксированные предприятия оформляются там, а работают…
Александр Балобанов: Да-да-да.
Иван Князев: Ну понятно. Такие истории у нас есть.
Вадим из Волгограда нам дозвонился. Вадим, здравствуйте.
Зритель: Здравствуйте. Я два месяца назад ездил в Белгород из Волгограда. Вчера – Астраханская область. Три дня был. Белгород и обратно. Вы знаете, на заправках и в магазинах, пока ехал, спрашивал у девчат и у мужчин: «Как вы зарабатываете?» Продавщицы все говорят, что 9, 10, 11 тысяч. Как так? Ну, это и 150–200 долларов не получается. «А мужья где работают?» – «Мужья в Москву ездят. И то…» Вот одна хорошо запомнилась продавщица, говорит: «Ездил муж два раза в Москву. Первый раз получилось, а второй раз фирма обанкротилась, и он за два месяца ни копейки не получил. Два месяца мы бегали, звонили – бесполезно».
Но я про другое. Я помню советские времена. Нам не нужен Советский Союз, понимаете, но нам советская Россия нужна. Была везде у всех работа. Я с 72-го года уехал на Чукотку. Везде была недостача рук – инженеров, учителей. Везде были рабочие – токари, слесари. Везде хватало работы, везде хватало заработка. Люди просто жили, и жили нормально, весело. Вот у меня сын не может работу. Ну, находит здесь, 12–15 тысяч в Волгограде. Ну что это такое?!
Иван Князев: Да, спасибо, спасибо, Вадим.
Ольга Арсланова: А вот нам еще пишет Краснотурьинск, Свердловская область: «Завод почти закрыт. Делают ремонты, облагораживают. А лучше бы дали денег – многие бы уехали. Ничего не производим. Ветка «Газпрома» тоже на грани закрытия».
То, что происходит сейчас в моногородах, можно назвать микросхемой всех экономических проблем в стране?
Александр Балобанов: Да, я как раз хотел сказать, что мы говорим о моногородах, но, конечно, это отражение общей ситуации – такой достаточно депрессивной или рецессивной, скажем так.
Иван Князев: Ну, их так и называют – депрессивными городами.
Александр Балобанов: Конечно, конечно. В этом смысле… Ну, можно смотреть на Советский Союз, можно еще как-нибудь, но, конечно, ситуация в целом такая неоптимистичная. То есть такого оптимистичного дыхания, связанного с открытием бизнеса, с развитием, с будущим, его в целом по стране, конечно, фантастически недостает. И это, конечно, в том числе в моногородах особенно сильно проявляется.
Иван Князев: Вы знаете, Александр, смотрите, в Счетной палате, помимо всего прочего, заявили, что программу надо перезапускать. То есть эти пять лет вроде бы как нам ничего не дали, и программу надо перезапускать. Правда, никто не понимает, как и зачем. Какой-то международный опыт есть? Как в других странах решали проблему моногородов?
Александр Балобанов: Есть, есть. Ну, трудно, трудно решали. Большие проблемы были в Британии, в Германии с угольными моногородами.
Иван Князев: То есть с приходом Тэтчер тогда все началось?
Александр Балобанов: Да. Классический пример – Детройт, который в незнамо какое состояние пришел после того, как там остановилось производство. Точно так же – с большими трудностями решают. И самым разным образом. Там, где есть…
Ну смотрите, тоже один из таких примеров, который широко и часто вспоминается, – реконструкция каких-то промышленных зон под то, что соответствует сегодняшнему дню: экономика впечатлений и все такое, туризм или общественные пространства. В основном это к большим городам или к городам, лежащим рядом с большими, относится, но все-таки. Да, работает лондонский опыт, американский есть опыт.
Я был в свое время… под Краковом есть такое местечко Величка, где шахты соляные. Так говорили, что… Там одна шахта, в которую туристы ходят, и я в нее спускался, а вторая работает, добывает соль. Говорят, что та, в которую ходят туристы, приносит больше денег, чем та, где добывают соль. Но это надо сделать, это надо сделать, чтобы туда можно было спускать туристов. Это большую работу надо проделать.
Иван Князев: Александр, вам не кажется, что мы сейчас обо всем об этом говорим… Ну да, какая-то модель экономики, какая-то модель развития моногородов где-то отражает всю нашу жизнь и тому подобное. А вот Башкортостан пишет: «Города разваливаются, семьи разваливаются». Вот представьте… А все-таки люди там живут, 10 тысяч свои получают, и у них же дети рождаются. Вы представляете – родиться в таком городе. Мне повезло – я родился в Советском Союзе.
Может быть, как-то все-таки эту проблему не просто решать на бумаге цифрами – столько денег выделили, такой проект, бизнесменам налоги дали, – а может, как-то по-другому к этому относиться уже? Это все-таки люди, это живые люди.
Александр Балобанов: Вот то, что вы сейчас говорите, мне кажется, очень важно – в том смысле, что это переключает внимание с чистой экономики на людей. У нас сегодня, конечно, во многих отношениях (и программа моногородов не исключение) все очень заточено на экономику. «Вот мы сейчас что-нибудь для бизнеса…» Все это крайне важно, но к этому не сводится жизнь людей.
И если мы думаем о том, что такое город в целом, то там много всяких других вещей важных, которые… Во-первых, можно, как правило, только находясь там, искать какие-то ответы, из федерального центра никак не решишь. А во-вторых, по-другому глаз надо затачивать. В этом смысле это тоже вещь, которая связана с такой децентрализацией, с развитием местного самоуправления и с внимательным отношением к тому, чем вообще там люди живут.
Наверное, есть такие примеры, но они не в центре точно, поэтому я сейчас не очень даже могу вспомнить. Например, есть такая вещь, как общественные работы, то есть вместе сделать что-то, улучшающее жизнь города, организовать это. Да, там будут небольшие деньги. Да, это не заработок, это не бизнес. Но это жизнь города может менять.
Иван Князев: Хорошо бы тех, кто разрабатывал эту программу, все-таки на какое-то время туда отправить, чтобы посмотреть, действительно, чем каждый… Вот во все 319 городов съездить и посмотреть, чем каждый из них живет, – может, тогда бы и получше было. Спасибо вам большое.
Александр Балобанов: Ну, может быть.
Иван Князев: Александр Балобанов, заведующий кафедрой государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС, был у нас в гостях. Спасибо, Александр.