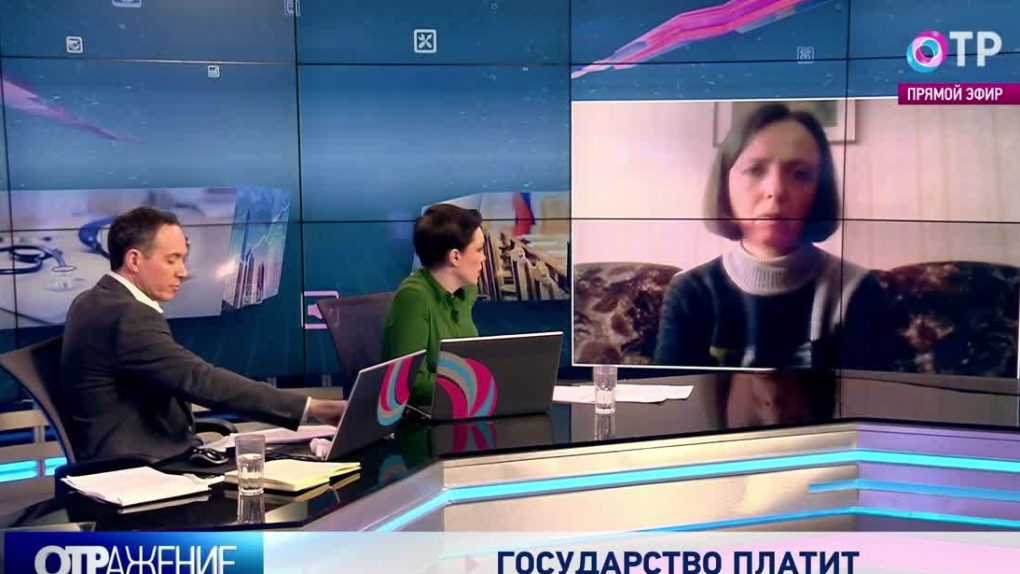Государство платит. Общие траты бюджета в прошлом году оказались самыми масштабными с начала 90-х
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/gosudarstvo-platit-obshchie-traty-byudzheta-v-proshlom-godu-okazalis-samymi-masshtabnymi-s-nachala-90-h-49823.html 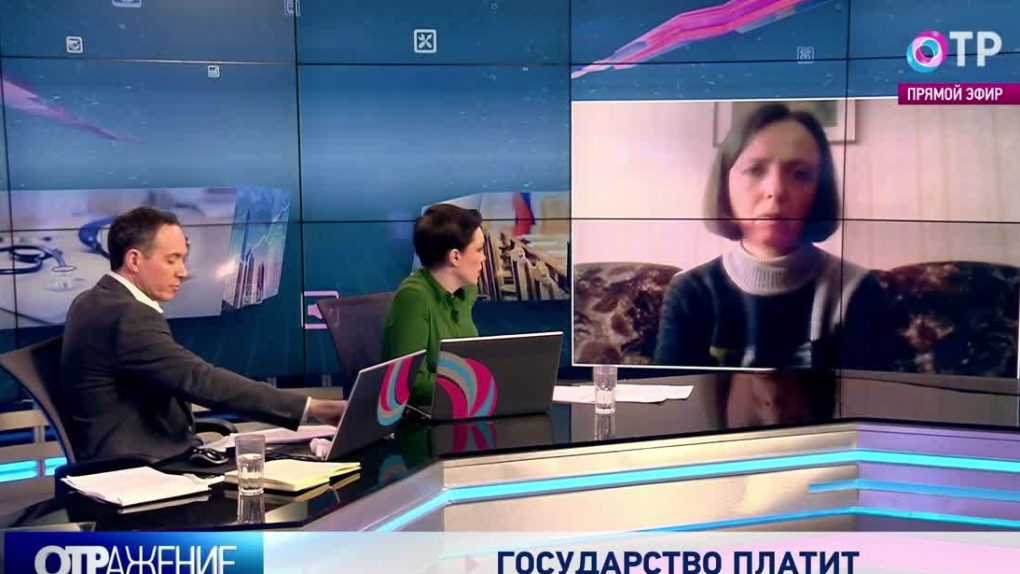
Оксана Галькевич: А сейчас вот о чем хотим поговорить с вами, уважаемые зрители, – государственные расходы, сколько бюджет тратит на граждан и не только в сложный пандемийный год. Весь 2020 год, я думаю, что вы об этом помните, только и говорили, цифры приводили со всего света, вот сколько выделили немцы, вот там сколько напечатали американцы и прочее, прочее, прочее, сколько тратили на своих, а что мы не в отдельных выплатах по 5 тысяч рублей на ребенка, а в общем?
Александр Денисов: В Центре развития Высшей школы экономики подсчитали, сколько в общем в прошлом году потратили федеральные ведомства, – 42 триллиона рублей, это на 25% больше, чем в 2019-м. В реальном выражении это рекордная сумма с начала 1990-х гг., за последние 30 лет.
Оксана Галькевич: Там даже больше 42 триллионов получилось. И вот смотрите, на что эти деньги были потрачены. Меньше всего у нас идет на культуру, спорт и экологию, там даже до 1% не дотягивает. 6% ушло на государственный аппарат, кстати говоря, не так много, мы все кричим, что гораздо больше. Далее идут оборона, образование, здравоохранение, на экономику уже 14% было пущено, а более всего, внимание, на социальную политику, 35% федерального бюджета, больше трети.
Александр Денисов: Да. И у нас на связи первый собеседник, первый эксперт – Евгений Надоршин, главный экономист консалтинговой компании «Капитал». Евгений, добрый день.
Оксана Галькевич: Здравствуйте, Евгений.
Евгений Надоршин: Добрый день.
Оксана Галькевич: Добрый день.
Евгений, смотрите, ну действительно, мы вот когда обсуждали выплаты, государственные расходы бюджета в сложный такой пандемийный год, как-то поругивали на самом деле государство-то наше, отечество, говорили, жадное оно, а оно-то, оказывается, смотрите, вон во сколько раз превысило свои привычные расходы на социальную политику. То есть не жадное оно, оно тратит на людей деньги.
Евгений Надоршин: Ну, одно другого, должен сказать, не исключает, к сожалению. Вот если под жадностью понимать неготовность российского государства увеличивать расходы и держать значительные дефициты в федеральном бюджете ради каких бы то ни было экономических или социальных целей, то вот как бы все, что произошло в прошлом году, вот этой жадности не отрицает. Вы бы показали 2019 год: дело в том, что прирост 2020-го к 2019-му по той же статье «Соцполитика» не такой впечатляющий, там на триллион с чем-то вообще-то увеличилось.
Оксана Галькевич: Ага.
Евгений Надоршин: И не забывайте, бо́льшая часть как бы расходов по этой соцполитике – это просто поддержка того же Пенсионного фонда. То есть это кажется, что что-то там как бы, может быть, новое, значимое образовалось, – да нет, было в девяностых, было в двухтысячных и никуда не исчезло сейчас. Собственно говоря, несмотря на проведенную пенсионную реформу, вот обозначу я ее вот так, тем не менее это значительная часть, вот как бы поддержка Пенсионного фонда, там доплаты за пенсии, – это все еще значительная часть, сильно доминирующая в этой самой социальной политике.
Александр Денисов: Евгений, ну вы так говорите, как будто Пенсионный фонд сам просто деньги ест, это же деньги будут выделяться тоже населению, пенсионерам. Опять же Пенсионный фонд, Евгений, был медиатором по выплатам, то есть и материнский капитал выплачивает, и многие пособия семьям тоже через Пенсионный фонд, поэтому это просто касса, это кассир, через него проходили социальные выплаты, это не лично Пенсионному фонду падало на счет, а он уж там сидел...
Оксана Галькевич: Как раз те самые деньги дети, семьям и так далее.
Евгений Надоршин: Естественно, просто я обращаю ваше внимание, к 2019 году изменение небольшое.
Александр Денисов: К 2019-му?
Евгений Надоршин: В пределах, около 10% прироста, насколько я помню...
Александр Денисов: Евгений, а насчет изменений, смотрите, статистика Росстата, они отчитывались, как повлияла на уровень бедности социальная политика государства. Если бы не выделили эти миллиарды, они прикинули, удалось задавить бедность на 2,3%, то есть было бы у нас за чертой бедности 15%, а так вот осталось 12%. В принципе эффект-то есть, даже 2% в масштабах всей страны – это прилично, и, как правило, это семьи с детьми, многодетные семьи, как раз достаточно неплохой эффект. Понятно, хотелось бы все задавить.
Евгений Надоршин: Не вопрос, не вопрос. Только вот на борьбу с бедностью, на улучшение описанного вами показателя пошли в основном средства, которые были выплачены как раз на детей дважды, в середине года, во время первой волны пандемии, конец весны – начало лета анонсировали их, и в конце весны выплатили, насколько я помню, в начале и в середине лета, и которые были выплачены в конце прошлого года, анонсированы во время, я сейчас не помню, пресс-конференции или как-то вот этого большого медиасобытия...
Александр Денисов: Евгений, еще забыли выплаты, если семья не дотягивает...
Евгений Надоршин: Суть вопроса... Давайте разделим просто, пожалуйста, а то риторика – это хорошо, но давайте как бы отнесемся к фактам нормально. Вот это несколько сотен миллиардов во всей этой большой сумме, а основная часть прироста госрасходов не на эти позиции пошла и не на борьбу с бедностью тоже, поэтому не нужно ассоциировать даже всю статью расходов по социальной политике с борьбой с бедностью, – нет, это не так. Вот то, что пошло многодетным, а это подавляющая часть как раз категории бедных в стране, вот это... Ну многодетных и на детей...
Оксана Галькевич: Семьи с детьми, да.
Евгений Надоршин: Это как раз единственная борьба с бедностью.
Александр Денисов: Евгений, еще справедливости ради нужно отметить, что были и другие выплаты и они сейчас продолжаются. Если на одного члена семьи, вы знаете это, многодетной семьи не приходится один региональный прожиточный минимум, то накидывают 50%, 75%. Если и это не помогает, целых 100% доплачивают. То есть программы разнообразные, просто мы не все их держим в уме, еще что-то наверняка припомнят.
Оксана Галькевич: Это в зависимости от региона?
Александр Денисов: В зависимости от региона.
Оксана Галькевич: То есть это, получается, в зависимости от возможностей региона?
Александр Денисов: Нет, это по всей стране, имеется в виду региональный прожиточный минимум, он всюду разный, в зависимости от ситуации с прожиточным минимумом.
Евгений Надоршин: У меня в этой связи только один вопрос: а что ж тогда бедность-то до сих пор такая значительная? Обратите внимание, у нас, в общем, несмотря на, вот как вы описываете, внушительную, выходит по словам, господдержку, с чем я не совсем согласен, хотя те меры, которые пошли на борьбу с бедностью, считаю лучшей частью программы поддержки населения в ковидный период, вот без сомнения. Я скорее продолжаю как бы считать, что масштаб действительно не такой, не столь впечатляющий, как пытаются создать ощущение власти, не столь впечатляющий, как вытекает из, казалось бы, числа мер.
У нас, обратите внимание, несмотря на все эти меры поддержки, снижение показателя бедности в общем и целом скорее укладывается в очередные майские указы 2018 года, никак его не опережая, а даже отставая. И собственно говоря, мы здесь по-прежнему, так сказать, идем с большим количеством, числом бедных, которым вот все эти программы почему-то как бы помогают совсем не так сильно, как, вот я говорю еще раз, кажется со слов. Если вы мне объясните, что же это такое, почему как бы вот так у нас выходит, ну тогда как бы я...
Александр Денисов: Евгений, а может быть, и объясню...
Евгений Надоршин: ...достаточности, избыточности, колоссальности поддержки.
Александр Денисов: Да. Евгений, а может быть, и объясню. Расходы государства в этот период делились на две части, поддержка населения, вторая часть – поддержка бизнеса, в той или иной мере, с разными условиями и так далее. У нас сегодня утром был предприниматель, который нам вот так вот на пальцах объяснил, он говорит: «Патриотизм и капитализм – вещи несовместимые». Мы его спрашивали, возьмете ли вы себе безработного, если вам будут доплачивать три МРОТ, страховые взносы компенсируют, еще прочее, он сказал: «Нет, мне это на фиг не нужно, просто я поступлю так, как мне выгодно. Хорошего работника я себе нашел, плати ты мне, не плати, я не собираюсь тут быть патриотичным за свой счет».
У меня сразу предложение: что мы тогда им платим, если они себя так ведут и так рассуждают? Безусловно, есть патриотичные, я уверен, наверняка есть и другие, но тем не менее человек нам четко это все сказал.
Евгений Надоршин: По-своему он прав, чисто капиталистическая идея исключает какие-то социальные ответственности или идеи всякого этого устойчивого развития, популярные в современном, в частности западном, условном таком бизнесе, на самом деле во многих многонациональных компаниях и набирающие обороты у нас. Это скорее, так сказать, требования общества, которые через законы, через общественное восприятие накладываются на бизнес...
Александр Денисов: Так давайте мы им перестанем платить деньги, их поддерживать, если они не хотят работать для страны, для населения.
Оксана Галькевич: Так, может быть, пусть он будет эффективен в своем бизнесе и платит налоги, а мы будем через эти налоги поддерживать тех, кому это необходимо?
Александр Денисов: Евгений? Оксана, я понимаю, ты разбираешься, но все-таки хочется мнение эксперта услышать.
Оксана Галькевич: Нет, я гораздо хуже, чем ты, разбираюсь.
Александр Денисов: Евгений, ваше мнение? Перестанем поддерживать?
Евгений Надоршин: Нет-нет, смотрите, на таком уровне дискуссии, я уверен, Оксана совсем не хуже эксперт, чем я, даже, возможно, лучше, ну потому что она хотела бы видела этого предпринимателя, слышала его аргументы, я-то сейчас вообще полемизирую, так сказать, с третьих слов.
Так вот, в моем понимании, скажем, есть определенная сермяжная правда в словах этого человека, если он полностью платит все те налоги, которые обязан по закону, ну а общество позволяет ему, так сказать, так вот выражаться, чувствовать себя и вести бизнес, то, собственно говоря, что же в этом неправильного? Обращаю ваше внимание, дополнительные обременения, которые накладываются на бизнес вот модными словами такими, как «устойчивое развитие», «социальная ответственность бизнеса», они проистекают из наших с вами желаний, устремлений и требований.
То есть бизнесмен ведь не сам по себе, он существует в социуме; если мы хотим, чтобы наш бизнес был социально ответственным, то мы должны транслировать ему это в разных видах и формах. Это не только как бы, простите, разговоры нас с вами в СМИ или вас с ним в СМИ. На секундочку, социальная ответственность возникает из того, как работник относится к своей работе, от отношения работника и бизнесмена, его нанимателя, от отношения обоих к продукту труда. Я вам хочу сказать, что у нас много есть, чего можно поправить вот в этих аспектах, про которые, так сказать, не принято кричать...
Александр Денисов: Евгений, да, и все-таки не слезу с вас, не слезу с вас. Все-таки, возвращаясь к поддержке бизнеса, смотрите, я налоги тоже плачу, вы тоже платите, я не хожу, не обращаюсь к государству, дайте мне поддержку, потому что сейчас, видите ли, времена такие, и слава богу, что справляюсь. Почему бизнес не живет по такому же принципу? Почему именно нужно ему выделять поддержку, а взамен ничего не требовать, а взамен мы слышим такие рассуждения, патриотизм и капитализм несовместимы?
Евгений Надоршин: Бо́льшая часть бизнеса в штуках на самом деле поддержку от государства в прошлой волне не получили, то есть даже то, что прошло через кредитные программы, в штуках от единиц бизнеса, особенно если мы считаем микробизнес и прочие, они никем не поддержаны. Еще раз говорю, бо́льшая часть в штуках от количества бизнесменов в прошлом году никакой особой поддержки от государства не получали несмотря на массовость анонсированных программ. Речь не идет о миллионах поддержанных бизнесов в полном или хоть в сколько-нибудь значимом объеме, а у нас все-таки, слава богу, пока еще миллионы в штуках.
Поэтому я вам так могу сказать, что какие-то бизнесмены в России по прошлому году могут быть весьма разочарованы тем, каким образом государство распределяло поддержку, и в этом смысле как бы его высказывания могли быть вполне эмоциональными и, еще раз, эмоционально оправданными, он мог ничего не получить. Собственно, обратите внимание, как и бо́льшая часть обычных работников. Если речь не идет о детях в возрасте до 18 лет, кажется, или до 16, была определена граница, то на самом деле многие люди тоже могли ничего от государства не получить несмотря на огромное количество разных анонсированных программ.
И в ряде случаев анонсированные программы, как это принято у нас, заработали вовсе не сразу или заработали в весьма ограниченном количестве, например, ориентируясь на коды ОКВЭД, на которые все раньше плевали, значит, кто там как регистрировался из разных бизнесов, и вдруг выяснилось: ох ты ж, боже ты мой, оказывается, для государства это суперважно, и теперь вроде бы я пострадал, но поддержку получить не могу. Не исключено, что человек очень недоволен государством...
Александр Денисов: А кто виноват? Надо было регистрироваться правильно, Евгений, кто виноват-то?
Оксана Галькевич: Ну, там действительно прозвучало с его стороны такое мнение, что, в общем, есть какое-то недоверие к тому, что эти меры поддержки будут работать...
Александр Денисов: Было-было, да.
Евгений Надоршин: Еще раз говорю, не могу вам сказать, чем мотивированы объяснения, его слова...
Оксана Галькевич: Потому что вы не слышали его, да.
Евгений Надоршин: ...но, еще раз, он вполне мог оказаться, по вероятности это очень высокое, то есть сильно больше 50% вероятность, в числе тех, кто либо ничего не получил, либо ему было положено, но не заплатили, потому что очень формально подошли к распределению поддержки, при том что раньше совершенно неформально подходили ко многим вещам, включая тот же ОКВЭД-2. У нас в стране, представляете, вот мы несколько лет как перешли на новый классификатор, который там расписывает, значит, в цифрах, в кодах...
Александр Денисов: Давайте поясним, классификация экономической деятельности, да, Евгений, чтобы все понимали, что за ОКВЭДы, да.
Евгений Надоршин: Да. Но государственные службы, представляете, не потратили достаточное количество усилий, для того чтобы этот классификатор нормально описать. И вот я сам, когда, так сказать, мне нужно было определять виды деятельности разных компаний, я затруднялся, я экономист, я с этим классификатором работаю, я затруднялся с тем, к какому виду деятельности что отнести. Никаких вразумительных инструкций, никаких внятных разделений, сильное отличие, например, с тем же ОКВЭД-1 в моем понимании, который действовал ранее. И вот, пожалуйста, это вам государство предлагает. Ну с какой стати обычный бизнесмен вообще должен об этом задумываться? Вдумайтесь на секунду: вам предложили какой-то мутный, непонятный классификатор, не объяснили, как куда вам записывать, а потом говорят, что помощь только по нему и их не интересует...
Александр Денисов: Да, Евгений, и еще зрителям нужно пояснить, что в зависимости от вида экономической деятельности...
Оксана Галькевич: Можно вопрос задать, Саш?
Александр Денисов: (Конечно, Оксана.) ...и выделяли эти средства, господдержку, чтобы было понятно.
Евгений Надоршин: Да-да-да. И я вам хочу сказать, человек мог быть расстроен, мог, столь халатное отношение госчиновников к своей деятельности породило, допустим, пренебрежительное отношение к этому вопросу со стороны его. И да, в какой-то степени он виноват, но, простите, виноваты обе стороны, а наказанным оказался он. Ну да, мог быть расстроен, могу понять.
Оксана Галькевич: Евгений, смотрите, вы сказали о том, что показали бы, мол, 2019 год, тогда было бы понятно, что успех 2020-го не такой грандиозный.
Евгений Надоршин: Да.
Оксана Галькевич: Ну, мы на самом деле в первой графике его, в заходе, показали, госрасходы, консолидированный бюджет, там есть и 2019 год, 37 с лишним триллионов, и 2020 год, больше 42 триллионов. Но там есть и более ранние данные. Вот смотрите, все равно, если говорить о некой тенденции, о том, что расходы государственного бюджета растут, это так? Или это опять некая какая-то, знаете, такая статистическая хитрость в этом присутствует?
Евгений Надоршин: Нет-нет, к сожалению, действительно, это временный рост, и я не про общую сумму, а именно про компоненту соцполитики, которая с 2019 года выросла совсем не так внушительно. Так вот, соответственно, нет какого-то впечатляющего роста госрасходов...
Оксана Галькевич: Вот смотрите, с 2011 года вполне впечатляющий рост, там меньше 20, а в 2020 году уже 42 триллиона.
Евгений Надоршин: Да-да-да, общая сумма... Ну, во-первых, у нас инфляция. Не забывайте, когда мы говорим о номинальных рублях, между 2011-м и 2020-ми гг. лежит очень приличный период довольно высокой инфляции, не всегда же инфляция у нас была 2–6%, если взять текущие значения. Нет-нет, у нас были двузначные темпы инфляции на этом горизонте. И, как вы понимаете, вот эти инфляционные рубли, так сказать, хоть номинально и сильно увеличивают сумму формально госрасходов, но на самом деле благосостояние как бы не увеличивают.
Это ведь и есть тот самый феномен падающих доходов, о которых у вас в программе мы неоднократно говорили. В номинальном-то выражении доходы растут, но с поправкой на инфляцию в последние годы стабильно, с 2013 года, падают. У нас есть два условных исключения с ростом в реальном выражении на 0,1% и 1,1% в 2018-м и 2019-х гг., а все остальное время доходы падали, но не в номинальном выражении, а в реальном, то есть с учетом их покупательной способности. Получали люди формально немного больше, но с поправкой на инфляцию купить могли на это меньше. Собственно говоря, вот здесь во многих случаях ровно такая же история, особенно когда, если вы слышите критики, например, в части расходов на образование, на здравоохранение, на многие такие вот статьи, там в номинальном выражении часто был рост, особенно если мы возьмем длинный горизонт с 2011 года, падение-то в реальном выражении, как раз с поправкой на покупательную способность этих новых рублей, поэтому...
И да, еще обратите внимание: основное отличие нас от многих, например, зарубежных стран, которые показали финансируемые дефициты при нашем довольно скромном, что у нас дефицит был в основном сформирован за счет недополученных доходов бюджета. То есть наш большой 4%-й дефицит, ну большой по нашим историческим данным, не на фоне госпрограмм поддержки, он сформировался за счет того, что государство просто нефтегазовых доходов в основном недополучило, ну сырьевых, а не оттого, что мы много расходов нарастили.
А вот у многих этих стран, с которыми мы любим сравниваться, условного Запада, дефицит сформирован как раз из-за активных действий, либо связанных с отказом от конкретных налоговых сборов и поступлений, отсрочкой их, даже не отсрочкой их, а в основном отказом, или да, из-за активного роста расходов, чего мы делать не стали. У нас, обратите внимание, приличная часть налоговых даже послаблений связаны не с отказом именно, а с отсрочкой, то есть то, что недополучено по итогам прошлого года, будет довыплачено по итогам этого, например.
Оксана Галькевич: Спасибо. Евгений Надоршин, главный экономист консалтинговой компании «Капитал», у нас был на связи, спасибо большое.
Друзья, мы продолжаем наш прямой эфир, ждем очень ваших звонков. У нас еще один эксперт на связи сейчас по Skype, профессор кафедры экономической и социальной географии России Московского госуниверситета, доктор экономических наук Ольга Кузнецова. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Ольга Кузнецова: Добрый день.
Александр Денисов: Ольга Владимировна...
Оксана Галькевич: Надо повыше звук…
Александр Денисов: Да, сейчас мы вас услышим, погромче говорите, пожалуйста.
Ольга Владимировна, говорим про соцполитику и в принципе должны понимать, в какой ситуации находимся, в какой стране живем. У нас рыночная экономика, одновременно идет вторая тенденция, вот сейчас отменили ковидные льготы, раз, потом идут разговоры о том, что среди тех, кто живет на доходы ниже прожиточного минимума, не так уж и много бедных, то есть еще нужно разобраться, пытаются найти четкий адрес бедности.
Недавно тут история была с Китаем, они победили бедность, они заявляют. Я посмотрел документальный фильм, как они борются с бедностью: ходит товарищ от Компартии, низовой уровень, и он опрашивает, например, деда, говорит: «Как ты зарабатываешь?» И дед говорит: «Ну пойдем, я покажу». Идут действительно в лес, дед сшибает какие-то орехи, и парень высчитывает у себя на бумажке, он пишет, что за день он продаст столько орехов, за неделю столько, значит, он в категорию бедности не попадает.
Я к чему клоню? При капитализме, при рыночной экономике неизбежно и государство заинтересовано как можно меньше оказывать соцподдержки, и это правило игры, рано или поздно мы тоже пойдем по такому пути и дойдем и до орехов, в Китае дошли, смешно, но дошли.
Ольга Кузнецова: Вопрос, суть в чем? Что дойдем до такой системы?
Александр Денисов: Конечно-конечно, да-да, неизбежно сокращение, другого пути нет.
Ольга Кузнецова: Вы знаете, задача государства, и я думаю, что пример Китая примерно из этой же серии, оценить реальную нуждаемость людей. В чем ведь проблема и российской системы социальной поддержки, и многих других вопросов, связанных с социальной сферой? – в том, что мы не всегда реально можем оценить реальный уровень нуждаемости людей. И задача государства помогать, и нормальным образом помогать тем, кто действительно попал в трудную жизненную ситуацию, кто нуждается в социальной поддержке, и по возможности не помогать тем людям, которые просто-напросто скрывают свои доходы, не платят налоги. Ведь те люди, которые имеют «серые» доходы, они могут показывать отсутствие у себя доходов и идти, претендовать на социальную помощь. Вот задача государства таких ситуаций не допускать.
Александр Денисов: Ну вот среди как раз, задали же вопрос им, 20% у нас ниже МРОТ получают, и пытаются вычислить, кто все-таки там бедный, а кто нет. Вот каким образом это можно понять, четкий адрес бедности, кто бедный, кто нет?
Ольга Кузнецова: Я считаю, что это правильно. Если действительно люди показывают, что у них доходы ниже МРОТ, но при этом находятся деньги на новые иномарки, на покупку жилья, на многие другие расходы, то почему такие люди должны быть претендентами на социальную поддержку? Ведь есть же действительно нуждающиеся люди, есть, в конце концов, бюджетники, которые честно работают и делают нужную для общества работу, и деньги надо тратить прежде всего на них, а не таких вот людей, которые просто уходят от уплаты налогов.
Александр Денисов: То есть отслеживать траты нужно в таком случае?
Ольга Кузнецова: Ну, как минимум да. То есть идея отслеживания крупных трат и появления расходов, еще раз повторю, на машины, на недвижимость, на другие крупные покупки у тех людей, у которых якобы нет вообще никакого дохода, – это вполне разумная мера.
Оксана Галькевич: Вы знаете, мы неделю назад обсуждали эту тему, нужно ли отслеживать, так скажем, некий финансовый, такой материальный статус семьи при назначении социальных пособий, даже у нас было голосование в эфире, большинство людей считают, что все-таки это не нужно. Действительно, в наших условиях, с такими низкими заработками, в наших климатических, экономических условиях наличие какой-то скромной машины засчитывать как признак богатства, какой-то скромной квартиры тоже как признак богатства, мы не совсем в принципе понимаем тогда, что есть бедность, а что есть некий достаток в нашей стране.
Ольга Кузнецова: Нет, я не говорю про то, что надо учитывать уже имеющуюся, допустим, квартиру, которая в семье существует уже не один десяток лет, досталась по наследству или просто находится в условиях социального найма, ну или даже владеют люди квартирой, в обычном панельном доме живет семья и квартиру эту не покупала. И совершенно другая история, если люди покупают новое жилье в дополнение к тому, что было, это принципиально новые квадратные метры. Если это не просто старенькая подержанная машина, а если это реально новая иномарка. Тут ведь вопрос в том, какие расходы отслеживать.
Александр Денисов: А мы сейчас все на иномарках ездим, они у нас все новые, да.
Оксана Галькевич: Ну, есть некоторые с локализованной сборкой в стране.
Ольга Владимировна, скажите, вот мы сейчас говорим о расходах государства в сложные периоды, приводим статистику по 2019-му, по 2020 году. Вот на что мы в принципе можем рассчитывать в трудной ситуации, на какую поддержку и на какие траты со стороны государства, а чего нам в принципе ждать не нужно было бы, как вы считаете?
Ольга Кузнецова: Ну, вы знаете, здесь, честно говоря, моя такая личная, наверное, больше позиция прозвучит. Я считаю, что у нас все-таки далеко не все люди не имеют какой-то подушки безопасности самой минимальной только потому, что они очень бедны. Да, такие категории людей есть, у кого уровень дохода настолько низок, что они не могут отложить ни чуть-чуть на черный день, и таким людям, безусловно, надо помогать. Но, с другой стороны, когда более-менее успешный предприниматель или человек, работающий по найму, опять же позволяет себе отдых, позволяет себе покупку новой машины, позволяет себе покупку жилья, потом при первой же сложности говорит: «Ой, я живу от зарплаты до зарплаты, дайте мне на кусок хлеба», – ну это тоже не совсем нормальная ситуация с финансовой грамотностью населения.
Александр Денисов: Да, спасибо, Ольга Владимировна. То есть по пути Китая все-таки пойдем, рано или поздно и до орехов добредем, ну в той или иной мере.
Спасибо. Ольга Кузнецова у нас была на связи, профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ.