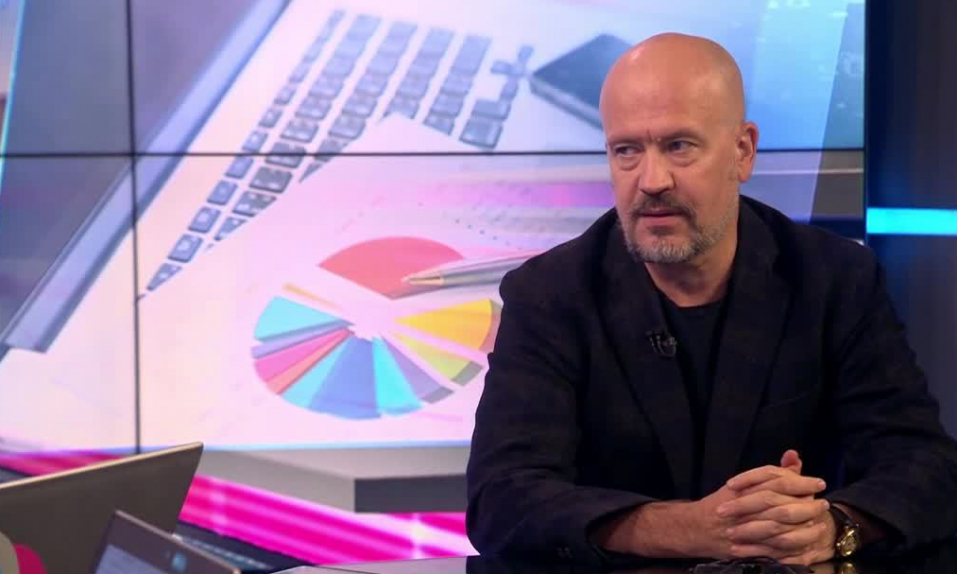«За последнее время губернаторов увольняли за межэлитные противоречия, а за экономические показатели – почти никого»
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/za-poslednee-vremya-gubernatorov-uvolnyali-za-mezhelitnye-protivorechiya-a-za-ekonomicheskie-pokazateli-pochti-nikogo-36798.html 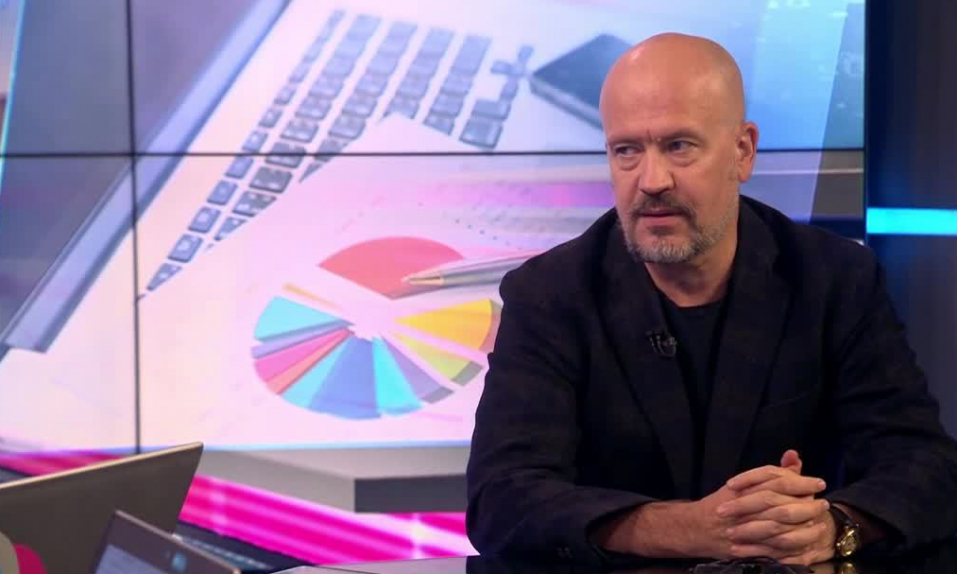
Владимир Путин утвердил критерии оценки губернаторов. В число показателей попали: уровень доверия к власти, количество высокопроизводительных рабочих мест, уровень бедности и другие. До 1 июня администрация президента должна разработать методику расчета уровня доверия к власти и ежегодно, до 1 марта, представлять главе государства доклад о его значениях. Методики расчетов остальных показателей должно разработать правительство. Главы субъектов обязаны до 1 апреля представлять в кабмин доклады о достигнутых значениях.
Анастасия Сорокина: Ну что же, переходим к главной теме. Но напомним сначала, что работаем мы в прямом эфире. Вы можете нам всегда позвонить – телефон указан на экране, звонок по нему абсолютно бесплатный. К тому же у нас есть группы в социальных сетях, куда можно написать, задать свой вопрос или высказать свое мнение, а мы постараемся обязательно его прочитать.
Александр Денисов: Даже нужно, я бы подчеркнул.
Анастасия Сорокина: Говорим мы сегодня о зачете, о губернаторском зачете. Каждый год теперь губернаторы будут готовить отчет президенту о проделанной работе. Критерии оценки сейчас разрабатываются на основании указа Владимира Путина. Своеобразный зачет будет проходить по 15 пунктам. Называть… точнее, наказывать никого не хотят, а только промотивировать. Стимулом для эффективной работы губернатора станет добавка в бюджет региона.
Александр Денисов: О наказании, кстати, министр Максим Орешкин сообщил в интервью, действительно сказал: «Наказывать не стремимся, стремимся просто оценивать и стимулировать». В ходу уже две аббревиатуры для критериев оценки губернаторов: есть англоязычная – KPI, и наша – КПЭ (ключевые показатели эффективности). Хотя вполне можно было бы использовать всем знакомую еще со школы по урокам физики – КПД.
Анастасия Сорокина: Давайте посмотрим, как будет выглядеть зачетный лист губернатора. Первый пункт перечня – это уровень доверия к власти. Далее следуют – количество высокопроизводительных рабочих мест, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в перечне производительность труда, уровень реальной среднемесячной заработной платы, объем инвестиций в основной капитал.
Александр Денисов: Ну, что еще? Есть такой показатель «уровень бедности», бесспорно важный. Ожидаемая продолжительность жизни. Вот тут вопрос к формулировке: ожидаемая – это как? Еще в критериях – естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, комфорт городской среды, уровень экологии, уровень образования и качество дорог.
Тему обсуждаем вместе с вами, а также с нашим гостем. В студии у нас – Андрей Михайлович Колядин, политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Анастасия Сорокина: Здравствуйте.
Андрей Колядин: Здравствуйте.
Александр Денисов: Вот такое ощущение, что сформировался такой отряд, губернаторский отряд, состоящий из рядовых, и каждого вызывают: «Выйди и отчитайся». То есть это уже не как князья раньше. Как Наздратенко выдернуть не могли – что хочет там и делает, получил ярлык и княжит. А сейчас это уже, в общем, даже как-то и непрестижно, что ли. Политологи говорят: «Уже такая должность – проблем много, с тебя большой спрос».
Андрей Колядин: Ну да. Вы знаете, это две несколько разные темы. Одна тема – это критерии оценки, а другая – это нынешняя судьба губернаторов. Я не буду открывать тайн, критерии оценки были всегда.
Александр Денисов: Даже их больше было раньше.
Андрей Колядин: Да, было 9 критериев оценки во времена Министерства регионального развития. Было 262 критерия оценки, когда отчитывались по самым различным показателям. Последние, принятые президентом… предпоследние (последние вот сейчас уже, 15 критериев), которые были приняты в 2017 году, – это было 19 критериев оценки. И они во многом совпадают с тем, что мы можем увидеть сейчас. Вот те 15 пунктов практически входили в состав и 19 предыдущих пунктов, ну, за исключением, может быть, доверия к власти.
Сейчас почему-то все более или менее оппозиционные политологи говорят: «Вот отношение к президенту или отношение к власти стало одним из критериев. Теперь будут выгонять губернаторов за то, что любит и не любит президента население».
Александр Денисов: А разъясните, почему это стоит первым пунктов?
Андрей Колядин: В самом деле ситуация такова, что в этом есть определенная логика. Во-первых, это всегда мониторилось. Всегда смотрели, каковы рейтинги президента на территории, на каждой территории. Всегда смотрели социологи, каковы рейтинги…
Александр Денисов: Чтобы, так сказать, губернатор не подводил власть.
Андрей Колядин: Тут ситуация глубже. Это не просто посмотреть – любят Путина или нет, нравятся народу уши Путина или костюм Путина, или как он ходит, или как он занимается спортом. Дело в том, что отношение к президенту и отношение к премьеру – это некий индикативный индекс того, как люди относятся к жизни своей в целом, окружающей. То есть это же не мужчина на выданье, который может понравиться, и выйти за него замуж. Это некие возможности, которые предоставляет власть федеральная для развития территории – это первая часть. А вторая – это способность руководителя территории реализовать эти возможности во благо тем людям, которые живут в данном регионе.
Александр Денисов: Андрей Михайлович, сразу вопрос, ловлю на слове: а все ли зависит от губернатора в регионе, все ли он может сделать?
Андрей Колядин: Нет. Нет, не все. Конечно же, не все. Потому что есть субъективные факторы, объективные факторы. Условно говоря, например, требовать сейчас высочайшего уровня развития промышленности, экономики и всего остального, например, от Магадана, от Магаданской области, от Колымы, где еще инфраструктура не проложена, дорог железных туда не проведено, там дороги нормальные не построены… Вы понимаете, что это уникальный край, в котором есть все и который богаче, чем Аляска, и который может стать основной для развития нашей страны. Сначала нужно построить инфраструктуру, а потом развивать регион. Это один из примеров.
Анастасия Сорокина: Андрей Михайлович, у нас как раз звонок из Магадана, давайте его примем. Андрей до нас дозвонился. Андрей, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Зритель: Добрый день. Ну, как уже сказали, я вас беспокою из города Магадана. Подскажите, пожалуйста… В представленном вами листе был вопрос – реальная заработная плата.
Александр Денисов: Да, это пятый пункт.
Зритель: Да. Данные будут направляться по данным Росстата? Либо же будет действительно представляться реальная заработная плата по региону?
Анастасия Сорокина: Спасибо, Андрей.
Андрей Колядин: Реальная заработная плата – это, по сути своей, способность на те деньги, которые ты получаешь, купить определенный объем продукции, которая тебе необходима для жизни. Условно говоря, тот же самый Магадан – опять же исходя из того, что я говорил, туда нет практически сухопутных дорог. Есть ледник зимой, который из Якутска, две тысячи с чем-то километров, можно провезти какие-то продукты.
Александр Денисов: Зимник.
Андрей Колядин: Зимник, да. Простите, не ледник. Ледников достаточно в Магадане. Да, это действительно так и есть. А так все продукты доставляются либо самолетом, либо морем. Там есть замерзающий и незамерзающий порт. Но это очень сильно повышает стоимость продуктовой корзины и всего остального.
Условно говоря, 30–35 тысяч – заработная плата в Магадане средняя. При этом помидоры стоят 500 рублей, 800 рублей. То есть естественно, что на те деньги, которые есть, купить продуктов можно меньше. Ну, просто вот это реальная заработная плата – какой объем.
Но это не решается повышением заработной платы просто так. Государство не может взять и повысить заработные платы. Это решается изменением инфраструктуры региона, появлением новых проектов, появлением новых предприятий, изменением, я не знаю, строительством дорог для того, чтобы можно было разведать окружающие залежи, фантастические залежи (там вся таблица Менделеева) и, соответственно, изменить облик Магадана.
Этим сейчас Сергей Носов занимается достаточно активно, губернатор Магаданской области. Я знаю, он встречался днями с президентом, он встречался с премьером. И там ожидаются очень интересные проекты. И я надеюсь, что это изменит в совокупности и реальную заработную плату на территории.
Мы с вами все видели недавно вышедший фильм Дудя про Колыму, двухчасовой. Я думаю, что этот регион заслуживает того, чтобы стать сиянием на территории России, потому что он действительно может стать основой развития нашей страны.
Анастасия Сорокина: Андрей Михайлович, вопрос, мне кажется, еще Андрея был в том, что реальные подсчеты… Он сказал: «Это Росстата данные или реальные подсчеты?»
Андрей Колядин: Вы знаете, нет, это формула, по которой рассчитывается заработная плата: стоимость потребительской корзины и возможность на реальную заработную плату… вернее, на деньги, которые ты получаешь, купить определенный объем потребительской корзины.
Анастасия Сорокина: Не будет ли некоего подлога в этих подсчетах?
Андрей Колядин: Вы знаете, люди, которые… Всегда чиновники умели отчитываться, это бесспорно. Но именно поэтому постоянно мимикрируют и меняются критерии, для того чтобы усложнить этот процесс. Когда мне говорят: «Как можно подсчитать влияние власти на общество?» – очень просто. Существуют три социологические… вернее, две социологические лаборатории – это ФОМ и ВЦИОМ, которые замеряют на территории рейтинги президента и Правительства. Существует ФСО, которая тоже замеряет это.
Александр Денисов: ФСО?
Андрей Колядин: ФСО. Всегда это делала.
Александр Денисов: Федеральная служба охраны этим занимается?
Андрей Колядин: ФСО всегда делала замеры в отношении президента, в отношении премьера. Раньше это было ФАПСИ вообще, которое делало это.
Когда я работал в Администрации президента и отвечал за все регионы России, возглавляя во внутриполитическом блоке как раз это направление, территориальный блок, я брал показатели ФОМ, ВЦИОМ, ФСО, складывал, делил на три – и получилась примерно та объективная картина и по потенциальным выборам, и по развитию территорий. И это цифры, это реальные цифры.
Понятно, что некоторые люди среди чиновничества, которые не хотят работать для народа, а хотят отчитываться, они будут… Ведь всегда же есть «счетчики». Есть люди, которые идут по территории и задают вопросы, определяют какие-то данные.
Анастасия Сорокина: И так тоже делают?
Андрей Колядин: Нет, социология на этом строится. В социологии к тебе подходят с планшетом и говорят: «Ответьте на такие-то вопросы». А потом включаются соответствующие формулы, репрезентативные выборки, которые позволяют оценить реальность какую-то, цифры какие-то показать.
Вот есть люди, которые занимаются непосредственно анализом цифр на территориях. Те цифры, которые представляются по министерствам и ведомствам. Те цифры, которые даются уже вот этим социологам, работающим на территории. И найдутся те, которые будут стараться угодить этим самым социологам или договориться с ними или с кем-то, чтобы они показали не те цифры, которые в реальности существуют, а выгодные для данного губернатора. Но тоже для этого есть самые различные перепроверочные данные.
Например, опять же работая в Администрации президента, было у нас шесть каналов получения информации с территорий, самых различных – и силовые каналы, и фискальные каналы, и министерства и ведомства, и социология, – через которые мы проверяли одно и то же, для того чтобы была объективная картина. Ведь объективная картина нужна не для того, чтобы власть федеральная взяла и выпорола губернатора на площади какой-нибудь, а для того, чтобы можно было оперативно менять свое отношение к региону, свои действия на территории этого региона, чтобы люди не страдали от каких-то явлений.
Анастасия Сорокина: Ну подождите, Андрей Михайлович. Орешкин же сказал, что эта система рассчитана на поощрение, а не наказание. То есть они, в общем-то, хотят просто, скажем так, по-другому теперь распределять региональный бюджет благодаря этим подсчетам?
Андрей Колядин: Вы знаете… Ну как по-другому? Существует сложившаяся система распределения бюджета, субсидий, субвенций. Я не думаю, что они в соответствии с критериями эффективности… Есть некий премиальный фонд – я бы так сказал.
Анастасия Сорокина: Мотивация такая?
Андрей Колядин: Мотивационный. Это очень небольшая часть бюджета. Это не те триллионы, которые уходят на содержание самых различных базовых проектов на территории, на зарплаты бюджетникам, пенсии, не знаю, на всякие… Более двух с половиной тысяч сейчас есть полномочий, которые работают в федеральном центре и в регионах.
Условно говоря, содержание лесов на территории. Содержание лесов – это полномочие, на которое даются деньги, и там идет рекультивация, обработка от всяких нехороших насекомых, противопожарные и т.д. и т.п. И это одно из направлений, под это дается бюджет. Но как забрать деньги и перераспределить, если губернатор что-то не так делает? Нет, все эти полномочия требуют целенаправленного и прямого вложения денег именно в это направление.
Анастасия Сорокина: Доля больше.
Александр Денисов: Ну, там имеется в виду, что есть некая сумма, 20 миллиардов, которые они могут разделить и лучшим отдать.
Андрей Колядин: Вот! Сумма. Делятся как бонусы, как бонусы. По сути своей, успешные губернаторы делают так же: они завязывают деятельность глав муниципальных образований на некие бонусы. Они создают свой фонд определенный. По крайней мере, раньше так было. Да и сейчас так же. И тем регионам, которые выполняют определенные правила, которые уже губернатор устанавливает для муниципалитетов, выделяют бонусы. И это позволяет им развивать, строить дороги – дополнительно к тому, что они обязаны построить. Я не знаю, изменять окружающее бытие – кинотеатр построить себе или дом культуры отремонтировать.
Александр Денисов: Андрей Михайлович, вот мы с вами затронули тему, что не все зависит от губернатора. Допустим, приходит новый губернатор, ему доверяют, поставили – молодой, сильный, подкованный. А там элита старая сидит. Допустим, в Мордовии Меркушкина сто лет уже там нет, а элита его до сих пор сидит.
Андрей Колядин: Ну, там его сын – один замов Волкова.
Александр Денисов: Безусловно, безусловно. То есть весь регион, грубо говоря, хозяйничают там эти люди. Вот что делать губернатору в такой ситуации? Вот как он там будет что-то менять, учитывая закостенелость такую, зацементированность ситуации?
Андрей Колядин: Тут есть две вещи. Первая – насколько губернатор, приехавший в данный регион, полюбит этот регион. Тот же самый Меркушкин, переехав в Самару, он поселился там на Первой просеке в особнячке, огороженном и охраняемом ФСО. И почти два срока, которые он там просуществовал, он оттуда не выходил.
Александр Денисов: Это пример нелюбви или любви?
Андрей Колядин: Просто ему…
Александр Денисов: Нелюбви.
Андрей Колядин: Нелюбви. Ему не нравилась Самара, как я понимаю. И он очень многие вещи, которые нужно было делать для этого региона, не сделал. Помимо того, что вся сельскохозяйственная продукция из Мордовии переехала в этот момент…
Александр Денисов: Все туда?
Андрей Колядин: Все туда, да. Цементные заводы были уничтожены и так далее, и так далее. То есть Мордовия стала питаться за счет Самарской области, потому что туда приехал губернатор. Он сделал много хорошего…
Александр Денисов: Спору нет.
Андрей Колядин: То есть то, что там прошел прекрасный чемпионат мира – начинал это Меркушкин. Он сделал и дороги, и многое другое. Но он и наносил вред определенный региону. Почему он, собственно говоря, и ушел через некоторое время.
Поэтому все зависит… Вот я и говорю, что он эти шесть лет просидел (или сколько?) вместе с восемью своими людьми, которых он вывез. Они даже не выходили, не общались с элитами, они не общались с территорией.
Анастасия Сорокина: Андрей Михайлович, мы не можем общаться с нашими зрителями.
Александр Денисов: Вернемся к теме.
Анастасия Сорокина: Звонок из Москвы, дозвонился до нас Леонид. Леонид, здравствуйте.
Зритель: Да, добрый день. Я добавлю, что я Леонид Сергеевич, поскольку не совсем молодой человек.
Анастасия Сорокина: Леонид Сергеевич, здравствуйте.
Зритель: Да, добрый день. С праздниками всеми вас, которые вы отмечаете. Вы знаете, я Андрею Михайловичу хочу вопрос задать и немножко покритиковать. Риторический вопрос и замечание некоторое.
Я думаю, что вот то, о чем вы говорите… То, что я вижу и говорю с вами, так сказать, в интерактиве – это я воспринимаю как современные технологии, интегрированные, внедренные на самом деле в имперско-феодальную систему управления нашим государством. Почему? Потому что у нас нет эффективной обратной связи, может быть, даже и умных людей наверху, как вы. А может быть, и нет, я же вас не знаю.
Риторический вопрос: почему не создаются… Затраты на программирование, на разработку такого рода порталов, сайтов очень небольшие. По всем регионам, прежде всего по губерниям, сайты открытые. Не такие, как в Москве, когда я пожалуюсь и вы пожалуйтесь, но я вашу жалобу не увижу, а вы мою жалобу не увидите. Мы не можем объединиться. Ну, Собянин лучше Лужкова – он отреагирует. Но это не то, это не управление.
А вот если будут созданы порталы, сайты, которые все население могут охватить открытым образом, независимо от вас и от управления, то и власть, и мы будем видеть объективные жалобы и объективное недовольство. Субъективность будет просто отпадать. Вот вопрос: почему это не делается? И не считаете ли вы это вообще необходимым?
Александр Денисов: Спасибо, спасибо, Леонид Сергеевич.
Анастасия Сорокина: Спасибо, Леонид.
Андрей Колядин: Вы знаете, и да, и нет. По крайней мере, Москва и Московская область – очень мощные есть сайты, которые… В Московской области более 10 миллионов людей посещают эти сайты в месяц, которые имеют возможность написать какие-то свои соображения. В Москве тоже, через него… Выскочило из головы, как называется этот сайт, но через него даже на Красную площадь можно попасть в Новогоднюю ночь.
Александр Денисов: Да хоть президенту можно написать через kremlin.ru.
Андрей Колядин: Вот смотрите, сейчас существуют очень интересные действующие агрегаторы, которые работают с той фактурой, которая приходит, критическая фактура, в том числе на самые различные сайты – и территориальные, и так далее.
В Администрации президента в свое время было сделано несколько обязательных команд, которые должны были реализоваться на территории регионов. Первое – это отчеты губернаторов, отчеты губернаторов перед депутатами и перед всеми. Второе – это те самые сайты, которые начали создаваться везде. Сейчас большинство высших чиновников присутствуют в социальных сетях и обязаны реагировать на все эти данные. Губернаторы и в Twitter, и везде абсолютно.
Есть специальные агрегаторы, например, в Ленинградской области, где в течение 15 минут, если выходит какая-то информация в социальных сетях о каких-то катастрофах, то эта информация мгновенно забирается агрегатором, доводится до главы района. Глава района должен быстро разобраться и в течение часа доложить губернатору Дрозденко или Перминову Сергею, вице-губернатору, о том, что есть проблема, эта проблема решена, как ее нужно решить, что для этого необходимо сделать.
И это развивается сейчас. Неправда, что это не развивается. Другое дело, что чаще всего люди хотят решения материальных вопросов. Крыша потекла – естественно, холодно.
Александр Денисов: Дорога, фонари.
Андрей Колядин: Дорога, фонари. А это в совокупности требует очень серьезных ресурсов. Это ведь только со стороны кажется, что… Ну, взяли бы сейчас и повысили на 30% зарплату… вернее, для пенсионеров пенсию – и все было бы хорошо. А что такое 30%? Это триллионы по всей стране, которые необходимо где-то взять. Либо напечатать – и тогда будет инфляция. Существуют законы определенные. Поэтому решить тысячи и миллионы запросов материальных крайне тяжело.
Александр Денисов: Андрей Михайлович, прежде чем второй звонок принять…
Анастасия Сорокина: Я тоже хотела задать вопрос, Саша.
Александр Денисов: Задавай, Настя.
Анастасия Сорокина: Андрей Михайлович, вопрос заключался в том, что есть некий барьер. То есть вот есть люди, они нам звонят в режиме реального времени и могут высказать свое мнение. Мы с Костей Чуриковым вели эфир, у нас был исполняющий обязанности губернатора. Мы думали, честно говоря, что сейчас посыплются звонки, и мы устанем отбиваться от критики. Мы были поражены тем, что люди говорили: «Спасибо за это, за это, за это». Он говорит: «Вы знаете, я четыре месяца в этой должности. У меня еще не было ни одного выходного дня. Я весь в этом процессе». Действительно, очень тяжелые обязанности и нагрузка. Но у него личный прием, у него есть какие-то такие вещи…
Андрей Колядин: У всех есть. Они обязаны это делать.
Анастасия Сорокина: Вот сейчас пишут люди: «Не попасть на прием к губернатору. Не слышит нас власть, не можем к ней пробиться. Мы пишем – нам не отвечают».
Андрей Колядин: Знаете, я был и вице-губернатором, и в Администрации президента, и замом полпреда. Есть определенные правила, которые нарушать ты не имеешь права. То есть у тебя в определенные дни должен быть прием граждан. Эти приемы граждан проходят. Есть сейчас определенные правила, когда сами главы регионов и их непосредственные суверены отвечают на вопросы людей, которые им пишут в социальных сетях. Есть правило, что в течение 30 дней ты должен дать мотивированный ответ на запрос.
Есть сумасшедшие. Простите меня, конечно, телезрители, но среди жалобщиков есть профессиональные жалобщики – вот приезжают с такими пачками и так далее. Но основная часть вопросов все-таки находится на контроле и решается, насколько это возможно.
Александр Денисов: Андрей Михайлович, уточнить хотел про элиты, вот мы недоговорили. Что делать, если губернатор – новый человек, а элита со своими экономическими интересами? Могут ли местные, региональные элиты помешать выполнять эти 15 критериев?
Андрей Колядин: Могут, могут. Я могу сказать, что за последние годы за экономические показатели ни одного губернатора не увольняли. Сажать – сажали, ну, когда решил, что бюджет – это его. И уже больше десятка сидит губернаторов за это. А вот увольнять – не увольняли ни разу. А за межэлитные противоречия и конфликты на территориях меняли почти всех. Бо́льшая часть… Меркушкин тот же, кстати, Миклушевский, я не знаю… Ну все практически. Недавно была Мария Ковтун, тот же самый Дубровский в Челябинской области.
Александр Денисов: Берг?
Андрей Колядин: Ну, Берг – меньше. Все-таки там не было таких жестких межэлитных противоречий. Ну, тоже у него был конфликт с мэром Оренбурга, мэр пошел этапом в результате. Но ситуация такова, что эти вопросы могут послужить основой даже для увольнения губернатора. Сейчас и служат для увольнения.
И не факт, что люди, которые сейчас молодые технократы… А их специально учат. Они учатся, у них есть специальные курсы. Это люди, которые имеют государственный опыт. Это люди, которые были заместителями министров, руководителями в каких-то крупных корпорациях подразделений и направлений. Но у них нет в большинстве своем опыта внутренней политики.
Александр Денисов: А чему учат? Вы говорите, что специально их учат.
Андрей Колядин: Их учат работе с бюджетом, с инвестициями, работе с муниципалитетами – то есть весь спектр экономический.
Александр Денисов: Кроме византийства такого, да?
Андрей Колядин: А вот византийство – это талант. Вы понимаете, что есть много художников, а Суриков один или какой-нибудь…
Александр Денисов: И Макиавелли один.
Андрей Колядин: Да, и Макиавелли один. Поэтому и в управлении так же. Те люди, молодые технократы, которые сейчас приходят на территории, многие из них станут выдающимися людьми. Они сумеют понять эту суть работы с внутренней политикой либо возьмут хороших менеджеров. Ну, не должен же каждый знать все. Человек не собирает чаще всего машину один, а обычно бывают разные специалисты – по электронике, не знаю, по горюче-смазочным материалам, по колесам, по ходовой части, по всему остальному. Либо он возьмет хорошего специалиста, который будет этим заниматься и закроет этот вопрос, то есть найдет точки соприкосновения с элитами.
И не уничтожит элиты, потому что элиты – это предприятия, это финансово-промышленные группы. Когда они борются между собой, они борются еще и экономическими методами. А что такое экономические методы? Они на свои заводы перекупают у других рабочих, повышая уровни заработной платы и забирая лучших специалистов. А в результате их конкуренты вынуждены делать то же самое. То есть это способствует экономической конкуренции, росту заработных плат и росту уровня жизни. Если их уничтожить, то…
Очень мало людей способны сделать из одного рубля два. Чаще всего потратить могут рубль, а не создать новое богатство. Поэтому с ними нужно находить общий язык. И это один из талантов губернатора должен быть или человека, который с ним работает и отвечает за это.
Анастасия Сорокина: Еще один звонок давайте примем из Пензенской области, до нас дозвонилась Наталья. Наталья, здравствуйте.
Зритель: Здравствуйте. Я очень люблю вашу передачу, всегда ее смотрю. Вот у меня такой вопрос. У нас дом 87-го года, мы получили его в 1987 году. И у нас двор ни разу не ремонтировался. У нас одни ямы! Если дождик прошел, то пройти нельзя. Двор у нас запущен, детской площадки у нас нет.
И еще такой вопрос у меня. У нас хотят взять деньги из капитального ремонта на площадку детскую, чтобы там что-то сделали. Это правильно?
Анастасия Сорокина: А это губернатор должен делать?
Андрей Колядин: Вы знаете, в принципе, если это о Пензе речь идет, то это должен делать мэр. Но мэр тоже исходит из того, что у него есть бюджет и у него есть так называемая программа КГС, «Комфортная городская среда», у него есть определенные ресурсы, выделяемые в том числе губернатором. И в рамках этой программы КГС иногда ремонтируются дворы, создаются детские площадки, иногда какие-то общественные пространства меняются. Вот не вошел двор в эту программу КГС – все, он остается еще на 10 лет, на 15 лет, и не будет ничего там происходить.
Что делать с этим? Ну, наверное, я все-таки надеюсь, что будет очередной какой-нибудь экономический рост, несмотря на все санкции и так далее, для нашей страны. Тогда на реконструкцию этих территорий будет тратиться больше ресурсов.
Ну, Пензу и Москву сравнивать ведь нельзя. Да, я тоже живу в доме, который в 54-м году был построен. Наверное, ремонтировался, я не знаю, со сталинских времен. Но двор нормальный, детская площадка есть.
У нас 26 миллиардов собирается мэрией только на штрафах, на платных парковках, когда увозят эвакуаторами машины. А что такое 26 миллиардов? Не знаю, это три бюджета какого-нибудь Челябинска или два бюджета Новосибирска – они год на это живут. То есть Москва, которая аккумулирует громадные ресурсы, и у нее есть возможность перекладывать каждый год дороги, мостить тротуары или прятать коммуникации под землю. И Пенза, у которой такой возможности нет, потому что у них нет на это ресурсов. Постепенно этот вопрос решаться будет, я думаю.
Анастасия Сорокина: То есть получается, что губернатору надо стать лучше, чтобы получить большую долю из 20 миллиардов и ремонтировать город?
Андрей Колядин: Нужно развивать производства, нужно привлекать инвестиции, нужно доходную часть повышать, налоговую, и из этого, соответственно… Это непросто, это очень тяжело. Но неслучайно в показателях той же самой эффективности и повышение производительности труда, и экологические проблемы – ну, в общем, вся совокупность.
Хотя повышение производительности труда – это тоже такое… Каждый из этих показателей имеет свой нюанс и свою сторону. То есть повышение производительности труда – это хорошо или плохо? Хорошо. Но я недавно говорил с одним из руководителей крупнейшей российской государственной корпорации, и он мне говорит: «Андрей, у меня восемь заводов на территории России, на них работают 7 тысяч человек, – а это закрытые города, это закрытые предприятия. – Я могу построить одно предприятие, где будут работать роботы, и 25 человек будут обслуживать в смену это предприятие. Ну, четыре смены – соответственно, 100 человек будут обслуживать. И я буду решать все вопросы свои, причем эффективно и быстро. Но куда я дену 7 тысяч человек? У них семьи, им некуда переехать».
Александр Денисов: А это какая отрасль, интересно?
Андрей Колядин: Я не хочу подставлять человека, потому что сразу будет…
Александр Денисов: Сырьевая?
Андрей Колядин: Перерабатывающая.
Александр Денисов: Перерабатывающая?
Андрей Колядин: Да. Это один из флагманов развития российской промышленности. Соответственно, он говорит: «Я вынужден находиться в тех реалиях, которые есть, потому что я несу ответственность за закрытые города и за тех людей, которые работают у меня на предприятии».
Поэтому если мы изменим ситуацию с производительностью труда (что нужно делать), то нужно понимать, что делать с людьми освободившимися, которые не вписываются в современную систему экономики, а кушать хотят, есть хотят, в школу детей своих хотят водить. В общем, каждое из таких направлений имеет вторую сторону.
Экология. Взять Челябинск, который промышленный и загазованный. «Челябинск, дыши!» – сражаются люди против региональной особенности, плохой экологии. При этом это же не значит, что нужно уничтожить предприятия.
Или Магаданская область, которую мы взяли, – это область, в которой нужно строить предприятия, разведывать недра. Это область, которая, не знаю… 400 тонн золота во время войны они добыли, ленд-лиз основной оплатили и, по сути, спасли страну. Не знаю, смогли бы мы выжить без ленд-лиза в свое время. А он же за деньги был, за золото. И сейчас это регион, который богаче, чем Аляска. Нужно просто эти процессы запустить.
Александр Денисов: Любите вы Магадан, я заметил.
Андрей Колядин: Да, есть причины. Если туда разместить заводы, предприятия и сделать этот регион высокоэффективным, то это скажется на экологии, которая там идеальная. Соответственно, все это необходимо увязывать, понимаете, и делать так, чтобы была золотая середина – и экономика развивалась, и от этого не страдали люди.
Анастасия Сорокина: Андрей Михайлович, давайте узнаем, какое мнение у жителей городов – например, Самары, Иркутска и Липецка. Их опросили наши корреспонденты, задавали простой вопрос: «По каким критериям вы оцениваете работу губернатора?»
ОПРОС
Анастасия Сорокина: В общем-то, все оценивают все то, что видят вокруг себя. То есть это то, о чем вы сейчас говорили, это глобальные задачи.
Андрей Колядин: Если мы сейчас об этом слушали, то это некий такой правильный патернализм общества. То есть чаще всего людям, которые живут на территории, абсолютно не интересны нормы прибыли предприятий, инвестиции в основной капитал и так далее. Они не хотят об этом задумываться, и правильно. Их интересует отремонтированный дом, тепло ли в этом доме, есть ли все коммунальные хозяйства.
Анастасия Сорокина: Двор, парк.
Андрей Колядин: Двор, парк, детский сад, больница. Ну, то есть основные вещи, которые… По сути своей, конечно, этим должны заниматься муниципалитеты (и занимаются). Обычно это полномочия мэров, глав муниципальных образований. Но над ними стоит губернатор, и, по сути своей, над губернаторами стоит президент. Поэтому, по сути своей, эта вертикаль власти продолжается до самого президента. И они тоже несут ответственность за существование всей системы обеспечения граждан в стране.
Но есть вещи, на которые внимание не обращается, но они есть в критериях. Это такие критерии, как повышение производительности труда, инвестиции в основной капитал, количество предприятий несырьевой отрасли и развитие этих предприятий. То есть некие такие факторы, которые зависят от губернатора, а не зависят от природной среды вокруг.
Потому что нельзя сравнивать Курганскую область, в которой, кроме сельскохозяйственной продукции и небольших залежей урана, нет никакой составляющей природной, и, условно говоря, ЯНАО, где 90% российского газа добывается, или ХМАО, где 90% российской нефти добывается.
Александр Денисов: Самый богатый малый город – Когалым.
Андрей Колядин: Ну, о чем и речь. Причем если в ХМАО 1,5 миллиона живет, то в ЯНАО живет 500 тысяч населения. Или тот же самый Сахалин – 500 тысяч населения, 200 миллиардов бюджет. Ну, за 200 миллиардов можно божественный край сделать, да, те самые отчисления от недр, от работы. Ну, у каждого свои возможности. Нельзя сравнивать те регионы, где нет природных ресурсов или их сложно извлечь.
Александр Денисов: То есть скидку будут делать на стартовые позиции?
Андрей Колядин: Да, конечно, конечно. То есть это некая оценка объективной реальности. Но, как и Майские указы, которые, по сути своей, не меняют все подразделения и все направления жизни, они не расписываются по 2 500 направлениям, о которых мы с вами говорили. Но есть 5, 7, 10 ключевых направлений, которые как драйверы экономические меняют всю окружающую жизнь. Если их не запустить, не будет развития страны вообще.
Анастасия Сорокина: Андрей Михайлович, наша реальность такова, что времени остается совсем немного. Давайте успеем еще один звонок принять. Дозвонился до нас Рашид из Татарстана. Здравствуйте.
Зритель: Алло, здравствуйте.
Анастасия Сорокина: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Зритель: Я из Татарстана. Мы своих руководителей уважаем, их любим. Все началось с Минтимера Шариповича – он дороги начал строить, водопровод.
Александр Денисов: А Минниханов?
Зритель: И Минниханов. Минниханов еще лучше. Он – как пчелка. Он сделал дороги, воду провел. Колхозы не развалили, в деревнях люди работают. Мы уважаем своих руководителей.
Александр Денисов: Рашид, а вы где живете – в городе или в деревне?
Зритель: В деревне. Никаких зачетов не надо. А кто будет принимать зачет?
Андрей Колядин: Вы знаете, очень люблю Татарстан, часто там бываю. И с Рустамом Нургалиевичем часто сталкивался, и с Ильсуром Метшиным, мэром Татарстана. Действительно, это территория, у которой можно многому научиться, начиная от преемственности. Ведь это один из немногих регионов, где не затоптали прежнего руководителя и не постарались стереть о нем память. То есть Шаймиев в настоящий момент является очень влиятельным лицом, он реализует серьезные проекты, которые идут на пользу региону. И к нему ездят, общаются, встречаются. Он бывает на всех основных мероприятиях. И по сути своей…
Вы знаете, Казань – феноменальный город. Когда я туда приезжаю, мне иногда там комфортнее, чем в Москве: вычищенный, вылизанный, отремонтированный. Ну, это просто… Действительно, люди, которые ее строят и благоустраивают, меняют…
Александр Денисов: А почему, кстати, вы говорите «не затоптали»? Вот какое качество было у Шаймиева, благодаря чему до сих пор он почитаемый человек?
Андрей Колядин: Вы знаете, наверное, это по многим факторам, потому что… Ну, условно говоря, рядом был Муртаза в Уфе…
Александр Денисов: Рахимов.
Андрей Колядин: Рахимов, да.
Александр Денисов: И там совсем другая ситуация.
Андрей Колядин: Да, совсем другая ситуация. Но он конфликтовал – и конфликтовал с федеральным центром, и конфликтовал внутри с элитами. Хотя он был выдающейся личностью тоже, очень талантливый человек.
Александр Денисов: И в окружении уголовных дел было достаточно.
Андрей Колядин: Да, очень много всяких было историй. И все это приводило к тому, что любой конфликт с федеральным центром снижает финансовые потоки на территорию, снижает уровень участия федерального центра в развитии территории. Ну, условно говоря, Татарстан, конечно, имел до последнего года… В августе прошлого года только кончился специальный договор, особые преференции – он оставлял бо́льшую часть налогов у себя и так далее.
Александр Денисов: Так что у Шаймиева было такого?
Андрей Колядин: Шаймиев всегда находил общий язык со всеми. Он находил общий язык со своим населением. Он находил общий язык с федеральным центром. Он участвовал во всех самых ключевых федеральных проектах, начиная от создания партии «Единая Россия» (той партии, которая вначале сияла). И при этом он всегда мог сказать «нет», но сказать «нет» не обидно. Он никогда не создавал негативного отношения к себе. Он умел лавировать.
Кстати, это прекрасно делает Минниханов сейчас. К Минниханову ездят со всей страны советоваться губернаторы, потому что он действительно находит те точки соприкосновения между струй самых различных, между башен Кремля и так далее проходит, являясь одним из самых уважаемых людей на территории. Вот эта мудрость передачи из поколения в поколение системы и правил управления территорией приносит результаты по развитию региона.
Анастасия Сорокина: Андрей Михайлович, остается у нас буквально меньше уже минуты. Какой можно подвести итог? Вот эти пункты, как вы считаете, они являются перспективными для того, чтобы действительно сделать работу губернаторов эффективной?
Андрей Колядин: Вы знаете, я думаю, что это будет продолжать меняться. Через два или через три года появятся следующие пункты, а потом – следующие и следующие. Но эти пункты сегодняшние, как бы их ни назвали – KPI, КПД, КПЭ, – это все, по сути своей, как договор. Договор заключается между людьми не на случай выдающихся успехов, а на случай проблем – тогда он извлекается, с ним идут в суд или куда-то.
KPI заставляет лентяев трудиться. То есть те люди, которые привыкли относиться к государственной службе, к бюджету…
Александр Денисов: Как к своему.
Андрей Колядин: Как к своему. С утра одевают тапочки с ушками пушистыми, себе пиво наливают, креветки ставят и смотрят телевизор вместо того, чтобы трудиться во благо страны с утра и до поздней ночи, как вы говорили. Вот они вынуждены сейчас все равно ориентироваться на этот KPI. О нем уже так просто не отчитаешься, необходимо что-то еще и делать.
Александр Денисов: В тапочках не придешь на отчет.
Андрей Колядин: Да.
Анастасия Сорокина: Ну, будем следить за развитием событий. Спасибо вам большое. Андрей Михайлович Колядин – политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов. Спасибо, что были с нами. Мы не прощаемся, вернемся в студию через несколько минут.